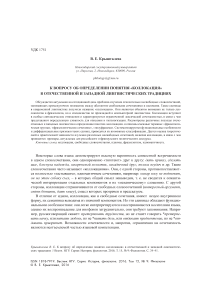К вопросу об определении понятия "коллокация" в отечественной и западной лингвистических традициях
Автор: Крышталева Вера Евгеньевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Обсуждается актуальная на сегодняшний день проблема изучения относительно несвободных словосочетаний, занимающих промежуточное положение между абсолютно свободными сочетаниями и идиомами. Такие единицы в современной лингвистике получили название «коллокации». Они являются объектом внимания не только лексикологов и фразеологов, но и специалистов по прикладной и компьютерной лингвистике. Коллокации вступают в особые синтаксические отношения и характеризуются ограниченной лексической сочетаемостью, в связи с чем представляют определенную сложность для описания и типологизации. Рассмотрены различные подходы отечественных и западных лингвистов к определению понятия «коллокация» и описаны смежные термины: «фразеологическая группа», «фразеологическое сочетание», «полуфразема». Систематизируются функциональные особенности и дифференциальные признаки таких единиц, приводятся их возможные классификации. Дается оценка теоретической и практической значимости изучения различных несвободных сочетаний, включая коллокации, в связи с чем приводятся примеры, актуальные для российского и французского политического дискурса.
Коллокации, свободные словосочетания, идиомы, фразеологизм, идиоматичность
Короткий адрес: https://sciup.org/147219677
IDR: 147219677 | УДК: 1751
Текст научной статьи К вопросу об определении понятия "коллокация" в отечественной и западной лингвистических традициях
Некоторые слова языка демонстрируют высокую вероятность совместной встречаемости в одном словосочетании, они одновременно «тяготеют» друг к другу: дать приказ , сделать шаг, блеснула надежда, закоренелый холостяк, закадычный друг, полоса неудач и др. Такие словосочетания часто называют «коллокациями». Они, с одной стороны, противопоставляются полностью «застывшим», идиоматичным сочетаниям, например: комар носу не подточит, он на этом собаку съел , – в которых общий смысл невыводим, т. е. не сводится к семантической интерпретации отдельных компонентов и их «механическому» сложению. С другой стороны, коллокации отграничиваются от свободных словосочетаний ( интересный аргумент, снять ботинки, дать книгу ), смысл которых прозрачен и предсказуем.
В отличие от идиом, коллокации, как и свободные сочетания, имеют ясную внутреннюю форму, их семантика выводима из значений компонентов. Но эти единицы обладают функциональными особенностями: они легко интерпретируются и воспринимаются носителями языка, однако их воспроизведение для инофонов затруднительно, они требуют запоминания. Например, русскоговорящий скажет: претерпевать трудности , но не станет говорить * претерпе-вать качку , или питать любовь , но не * питать боль , или отдавать предпочтение , но не * от-давать приоритет . Возможности сочетаемости и, напротив, ограничения на сочетаемость являются неотъемлемой частью языковой компетенции.
Крышталева В. Е . К вопросу об определении понятия «коллокация» в отечественной и западной лингвистических традициях // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 9: Филология. С. 34–41.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 9: Филология
Коллокации занимают промежуточное положение между свободными сочетаниями и идиомами. Их изучение и описание основных дифференциальных признаков представляет собой актуальную тему в современном языкознании. Этой проблематикой занимаются не только лексикологи и фразеологи, но и специалисты в области прикладной и компьютерной лингвистики.
В нашей статье представлены различные подходы отечественных и западных лингвистов к определению понятия «коллокация», характеристики признаков таких единиц и их возможные классификации. Предварительно скажем, что западная традиция во многом ориентирована на работы отечественных лингвистов (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, Л. Н. Иорданская), которые одними из первых сформулировали данную проблематику.
При широком подходе к определению состава коллокаций к нему относятся все лексические единицы, которые имеют тенденцию к совместной сочетаемости в одних и тех же контекстах. Эта концепция была предложена английским лингвистом Дж. Р. Ферсом в 1950-х гг. и получила развитие в трудах его соотечественников (например, М. А. К. Халлидэй, Р. Хасан, Дж. Синклар). По мнению М. А. К. Халлидэя и Р. Хасана [Halliday, Hasan, 1976], основная функциональная роль коллокаций – обеспечение связности текста.
laugh .joke, blade .sharp, ill.doctor [„] The cohesive effect of such pairs depends not so much on any systematic relationship as on their tendency to share the same lexical environment, to occur in collocation with one another. In general, any two lexical items having similar patterns of collocation – that is, tending to appear in similar contexts – will generate a cohesive force if they occur in adjacent sentences [Ibid. P. 285–286].
‘ смеяться ... шутка , лезвие ... острый , болеть ... врач [...] Связующий эффект таких пар не столько зависит от системных отношений, столько от их тенденции разделять одно и тоже лексическое окружение, появляться в коллокации друг с другом. В целом не имеет значения, какая именно пара лексических элементов имеет общие коллокативные модели – т. е. тенденцию к появлению в одних и тех же контекстах – их связующая сила порождается, если они встречаются в смежных высказываниях.ʼ
Впоследствии этот подход нашел развитие в работах специалиста по корпусной лингвистике Дж. Синклара [Sinclair, 1991] и английских контекстуалистов, например Дж. Уилльямса 1 [Williams, 2001].
Тем не менее западные лексикологи и лексикографы отдают предпочтение узкому пониманию данного термина, в рамках которого коллокация трактуется как связь двух языковых единиц, вступающих в синтаксические отношения и характеризующихся особой лексической сочетаемостью. Это определение было предложено в работах по теоретической лексикографии И. А. Мельчука [1960; Толково-комбинаторный словарь..., 1984; Mel’čuk, 1996; Иорданская, Мельчук, 2007], чьи исследования в наибольшей степени определили направление развития лингвистической мысли в рамках данной проблематики, причем как в России, так и за рубежом.
Идея наличия переходной стадии устойчивости между свободными и несвободными словосочетаниями появилась еще в 1909 г. в работе Ш. Балли «Французская стилистика». Швейцарский лингвист выделил два противоположных случая: 1) свободные сочетания, которые распадаются сразу же после их создания и составляющие их компоненты получают возможность вступать в иные комбинации, и 2) фразеологические единства, в которых слова полностью теряют свою независимость и имеют смысл только в данном сочетании. Между ними – переходные случаи, которые, по мнению Ш. Балли, достаточно сложно определить и классифицировать. Такие словосочетания он называет «фразеологическими группами», в которых «элементы сохраняют независимость, обнаруживая, однако, известную близость между собой, так что вся группа имеет четко очерченный контур и производит впечатление чего-то уже виденного, знакомого, привычного» [2001. С. 92], например: фр. gravementmalade ʻтяже-лобольнойʼ и grièvementblessé ʻтяжелораненыйʼ, désirerardemment ʻстрастно желатьʼ и aimer éperdument ʻбезумно любитьʼ. В этих фразеологических группах наречия имеют обязательный характер воспроизведения. По сути, такие единицы и получили в настоящее время терминологическое обозначение «коллокации».
Несмотря на то, что Ш. Балли первым сделал эти наблюдения, фразеология как специальная дисциплина (с собственным терминологическим аппаратом и отдельным объектом изучения) сформировалась в России (в 1940-е гг.) благодаря трудам В. В. Виноградова [1946; 1947].
В рамках этой дисциплины фразеологизм понимается как синтагма (подчеркивается синтаксическая природа данной языковой единицы), состоящая как минимум из двух лексем, обладающая такими свойствами, как повторяемость, специфичность значения, не выводимого из суммы значений его компонентов, структурная устойчивость и экспрессивность. Основываясь на концепции Ш. Балли, В. В. Виноградов [1947] предложил классификацию фразеологизмов по степени семантической спаянности и выделил три типа фразеологических сочетаний: 1) фразеологические сращения, синтаксически неделимые, наиболее идиоматичные (у черта на куличках , ничтоже сумняшеся , сидеть на бобах ); 2) фразеологические единства, потенциально интерпретируемые на основе семантической связи элементов ( держать камень за пазухой, языком чесать, плясать под чужую дудку ); 3) фразеологические сочетания, в составе которых есть как минимум один свободный элемент ( щекотливый вопрос, щекотливое положение, обдать презрением, обдать злобой ) [Там же. С. 339-364].
Последние (фразеологические сочетания) являются аналогом коллокаций, потому что в них сохраняются признаки семантической раздельности компонентов, в которых, как правило, значение мотивировано структурой устойчивого сочетания.
Труды В. В. Виноградова определили бурное развитие отечественной фразеологии (работы Н. М. Шанского [1963], И. И. Чернышевой [1970], Д. Н. Шмелева [1977] и др.) и издание фразеологических словарей (например, «Фразеологический словарь русского языка» А. И. Молоткова [1968]). В свою очередь, некоторые идеи, выдвинутые советскими лингвистами в 1950– 1970-х гг., были заимствованы европейскими учеными и способствовали разработке теории фразеологии на материале западных языков. Так, исследования немецких лингвистов Ю. Ха-узермана [Häusermann, 1977], Х. Бургера и Р. Зетта [Burger, Zett, 1984] базируются на идеях И. И. Чернышевой, о чем можно судить по прямым ссылкам на ее работы [1970; Černyševa, 1980].
Современная проблематика изучения коллокаций связана прежде всего с теорией «Смысл⇔-Текст» И. А. Мельчука и вписывается в рамки комбинаторной лексикологии и лексикографии, которые оперируют другими терминами, нежели классическое российское языкознание.
Л. Н. Иорданская и И. А. Мельчук [2007] предпочитают термину «коллокация» термин «по-луфразема», мотивированный термином «фразема» 2. Префиксоид полу - обозначает неполноту идиоматичности его значения3. Мы все же предпочитаем термин «коллокация» по причине его большей функциональности в современной лингвистической литературе.
Далее выделим сущностные признаки коллокаций, опираясь на работы последних лет.
Французские лингвисты А. Тютан и Ф. Гроссман [Tutin, Grossmann, 2002] предлагают следующие обязательные и периферийные «параметры» коллокаций: бинарный характер (наличие в составе двух лексем), диссимметричность («база» сохраняет прямое значение, а второй компонент, «коллокатив», от него зависит), «лексическая селекция» (база обусловливает выбор коллокатива), прозрачность значения и произвольность (непредсказуемость лексической сочетаемости). Первые три признака являются обязательными, а последние критерии необходимы для того, чтобы дифференцировать коллокации по шкале большей или меньшей степени идиоматичности.
На основе определения И. А. Мельчука и его коллег 4 А. Тютан и Ф. Гроссман дают уточненную дефиницию данного термина:
Une collocation est l’association d’une lexie (mot simple ou phrasème) L et d’un constituant C (généralement une lexie, mais parfois un syntagme) entretenant une relation syntaxique telle que:
– C (le collocatif) est sélectionné en production pour exprimer un sens donné en cooccurrence avec L (la base).
– Le sens de L est habituel [Tutin, Grossmann, 2002. P. 12].
ʻКоллокация – это соединение лексемы (слова или фраземы) L и компонента C (обычно лексемы, но иногда и синтагмы), вступающих в такие синтаксические отношения, при которых:
– С (коллокатив) выбирается так, чтобы выразить данный смысл в сочетании с L (с базой).
– L (база) выступает в своем прямом значении.ʼ
Российские лингвисты А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский [2008] занимаются «категорией идиоматичности» (связанной с категорией «устойчивость» – в структурном и узуальном аспектах) и выделяют в ней такие базовые факторы, как переинтерпретация значения, непрозрачность его выражения и усложнение способа указания на денотат. Отталкиваясь от идиоматичности и устойчивости, исследователи приходят к понятию нерегулярности, трактуемой ими как «использование при формировании языкового выражения менее общего правила при наличии более общего» [Там же. С. 55]. Таким образом, по их мнению, идиомы – сверхсловные образования, которым свойственна высокая степень идиоматичности и устойчивости, а нерегулярность коллокаций связана в первую очередь с произвольностью выбора семантически «опустошенного» слова. В отличие от идиом, коллокации – «слабоидиоматичные фразеологизмы со структурой словосочетания, в которых семантически главный компонент употреблен в своем прямом значении» [Там же. С. 67]. Соответственно, в логике исследователей порог нерегулярности у коллокаций значительно ниже, чем у идиом.
В связи с известной размытостью контуров понятия «коллокация» их классификация представляет собой определенную сложность. Однако многие лингвисты сходятся во мнении, что удобнее всего типизировать данные относительно несвободные словосочетания, основываясь на концепте лексических функций (ЛФ) И. А. Мельчука.
Согласно «Толково-комбинаторному словарю современного русского языка» (ТКССРЯ) [1984], ЛФ – это «функция в математическом смысле, передающая некоторый весьма общий смысл типа “очень”, “начинаться” или “выполнять”, или определенная семантико-синтаксическая роль» [Там же. С. 77].
Так, А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский различают коллокации-Magn, коллокации-Oper-Func, коллокации-Real-Fact и метафорические коллокации [2008. С. 67–68].
Коллокации-Magn – это двусловные устойчивые сочетания, нестандартно передающие смысл Magn5 ( жгучий брюнет , закадычный друг ). Коллокации-Oper-Func нетривиальным образом передают смыслы Oper или Func, например, принимать решение, ставить вопрос . Аналогично коллокации-Real-Fact - смыслы Real или Fact: желание сбывается, искупать грех . Что касается метафорических коллокаций, то в них один из компонентов употреблен в прямом значении, а второй – метафора, изменяющая значение первого ( зерно истины и червь сомнения ) .
В свою очередь, французские ученые А. Тютан и Ф. Гроссман, опираясь на семантические критерии и следуя модели И. А. Мельчука, дифференцируют коллокации:
-
1) непрозрачные, в которых значение коллокатива в сочетании с базой отличается от стандартного, существующего вне данного словосочетания, например, фр. peurbleue , букв. ʻголубой страхʼ ⇒ ʻжуткий страхʼ, colèrenoire , букв. ʻчерный гневʼ ⇒ ʻстрашный гневʼ. Эти сочетания ближе всего к идиомам, однако смысл базовых компонентов поддается интерпретации;
-
2) прозрачные, в которых смысл коллокатива может быть понятен, но является трудно предсказуемым, например, faimdeloup , букв. ‘голод волка’ ^ ‘сильный голод’, celibataireendurci,
букв. ʻзатвердевший холостякʼ ⇒ ʻзакоренелый холостякʼ. Подобные коллокации легко «читаются» не-носителями языка, но не могут непринужденно воспроизводиться в их речи, требуют запоминания;
-
3) регулярные, в которых коллокатив включает часть значения базы, например, nezaqui-lin , букв. ʻнос орлаʼ (птицы) ⇒ ʻорлиный носʼ (человека), l’ânebrait , букв. ʻосел кричитʼ ⇒ ʻосел реветʼ (звуки, издаваемые ослом, принято называть ревом, а не криком). Эти словосочетания ближе всего к свободным [Tutin, Grossmann, 2002. P. 12–13].
Нельзя сказать, что это готовая классификация, скорее выработанный принцип, который необходимо развить, дополнив семантическими и синтаксическими критериями. Однако исходная классификация позволяет по-новому взглянуть на традиционный подход к пониманию коллокаций.
С одной стороны, лингвисты, занимающиеся анализом и обработкой подобных словосочетаний для их лексикографического кодирования (в частности, И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, Л. Н. Иорданская) в строгом, структурном понимании, относят к коллокациям только выражения типа англ. blackcoffee , букв. ʻчерный кофеʼ ⇒ ʻкофе без добавления молокаʼ, или Frenchwindow , букв. ʻфранцузское окноʼ ⇒ ʻдоходящее до пола и забранное невысокой решеткой снаружи окноʼ, т. е., в терминологии А. Тютан и Ф. Гроссман, «непрозрачные» коллокации. А отнесение к коллокациям «прозрачных» и «регулярных» сочетаний, с их точки зрения, является дискуссионным.
С другой стороны, концепцию И. А. Мельчука нередко критикуют за формальный подход к языковым явлениям, без учета экстралингвистических и узуальных аспектов. Учитывая первое и второе, теорию изучения коллокаций И. А. Мельчука можно принимать, но не безоговорочно, она вполне может являться теоретической базой для дальнейших исследований.
В связи с положением Л. Н. Иорданской и И. А. Мельчука [2007] о том, что люди говорят не словами, а фраземами (т. е. различными несвободными словосочетаниями), усиливается значимость коллокаций не только в теоретическом, но и в практическом аспекте. В частности, они широко представлены в политическом дискурсе: российская и французская политика дают этому множество примеров.
В проанализированных нами официальных выступлениях действующих президентов России и Франции (В. В. Путина и Ф. Олланда)6 нам встретилось большое количество метафорических коллокаций ( фундамент системы , структура экономики , рамки закона ; machine judiciaire ʻсудебная машина ʼ, structure politique ʻполитическая структура ʼ, série de discours ‘ гряда выступлений’) и коллокаций со вспомогательными глаголами7 ( сделать шаг, совершить теракт, оказать доверие ; faire un choix ‘сделать выбор’, eprouver du doute ‘испытывать сомнениеʼ, ressentir du respect ʻпитать уважениеʼ).
Таким образом, анализ подобных несвободных словосочетаний, в современной лингвистике получивших название «коллокации» (прототипами которых выступили «фразеологические группы» Ш. Балли и «фразеологические сочетания» В. В. Виноградова), открывает новый аспект в изучении семантической и синтаксической обусловленности в устойчивых связях между словами.
Список литературы К вопросу об определении понятия "коллокация" в отечественной и западной лингвистических традициях
- Балли Ш. Французская стилистика / Под ред. Е. Г. Эткинда; пер. с фр. К. А. Долинина. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 392 с.
- Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008. 653 с.
- Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как научной дисциплины // Труды юбилейной сессии ЛГУ. Секция филол. наук / Под ред. С. Д. Балухатого. Л., 1946. С. 118-139.
- Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Сб. «А. А. Шахматов (1864-1920)» / Под ред. С. П. Обнорского. М.; Л., 1947. С. 339-364.
- Иорданская Л. Н., Мельчук И. А. Смысл и сочетаемость в словаре / Под ред. Е. Н. Саввиной. М.: Языки славянских культур, 2007. 672 с.
- Мельчук И. А. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность» // Вопр. языкознания. М., 1960. С. 73-79.
- Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка. М.: Высш. шк., 1970. 199 с.
- Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка: Учеб. пособие для студентов филол. фак-тов ун-тов. М.: Высш. шк., 1963. 165 с.
- Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1977. 335 с.
- Beliakov V. Les stéréotypes linguistiques en russe: sémantique et combinatoire. Dijon: Ed. universitaires de Dijon, 2012. 209 p.
- Burger H., Zett R. Aktuelle Probleme der Phraseologie // Symposium Zürcher Germanistische Studien. Zürich, 1984. S. 109-120.
- Černyševa I. I. Feste Wortkomplexe des Deutschen in sprache und Rede. Moskva: Vysšaya škola, 1980. 288 p.
- Halliday M. A. K., Hasan R. Cohesion in English. London: Longman, 1976. 367 p.
- Häusermann J. Phraseologie: Hauptprobleme der Deutschen Phraseologie auf der Basis sowjetscher Forschungsergebnisse. Tübingen: Niemeyer, 1977. 134 p.
- Mel'čuk I. A. Lexical functions: a tool for the description of lexical relations in a lexicon // Lexical Functions in Lexicography and Natural Language Processing / Ed. by L. Wanner. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 1996. P. 37-102.
- Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford Univ. Press, 1991. 179 p.
- Tutin A., Grossmann F. Collocations régulières et irrégulières: esquisse de typologie du phénomène collocatif // Revue française de linguistique appliquée, vol. VII. Grenoble 2002, № 1. P. 7-25.
- Williams G. Les réseaux collocationnels dans la construction et l’exploitation dans le cadre d’une communauté de discours scientifique. Lille: Presses Universitaires de Septentrion, 2001. 300 p.