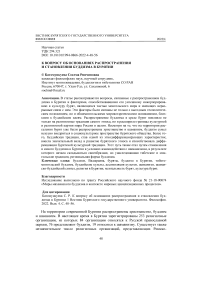К вопросу об основаниях распространения и становления буддизма в Бурятии
Автор: Батомункуева Соелма Ринчиновна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с распространением буддизма в Бурятии и факторами, способствовавшими его успешному инкорпорированию в культуру бурят, являющихся частью монгольского мира и имеющих неразрывные связи с ним. Эти факторы были связаны не только с выгодным геополитическим положением, но и общемонгольскими мировоззренческими основаниями, близкими к буддийским идеям. Распространение буддизма в среде бурят повлияло не только на религиозные традиции самого этноса, но и расширило границы культурной и религиозной картин мира России в целом. Несмотря на то, что на территории расселения бурят уже были распространены христианство и шаманизм, буддизм сумел искусно внедриться в социокультурное пространство бурятского общества. Более того, буддийская традиция, став одной из этнодифференциирующих характеристик, внесла значительный вклад в развитие бурятского этноса и способствовала дифференциации бурятской культурной традиции. Этот путь также стал путем становления и самого буддизма в Бурятии в условиях взаимодействия с шаманизмом, в результате которого начала складываться своеобразная, но унаследовавшая тибетские и монгольские традиции, региональная форма буддизма.
Буддизм, ваджраяна, буряты, буддизм в бурятии, тибето-монгольский буддизм, буддийские культы, ассимиляция культов, шаманизм, шаманско-буддийский синтез, религия в бурятии, ментальность бурят, культура бурят
Короткий адрес: https://sciup.org/148325641
IDR: 148325641 | УДК: 294.321 | DOI: 10.18101/1994-0866-2022-4-48-56
Текст научной статьи К вопросу об основаниях распространения и становления буддизма в Бурятии
Батомункуева С. Р. К вопросу об основаниях распространения и становления буддизма в Бурятии // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2022. Вып. 4. С. 48‒56.
На территории современной Бурятии распространены христианство, буддизм и шаманизм. В настоящее время в Бурятии зарегистрированы 253 религиозные организации, из которых 84 организации относятся к Русской православной церкви, 76 представляют буддизм, 19 относятся к шаманизму. Существует также незначительное число религиозных организаций, представляющих Римско- католическую церковь, ислам, веру Бахаи, вайшнавов, адвентистов, баптистов и т. д.1.
Несмотря на то, что в целом по республике христианство является наиболее распространенным вероисповеданием, общий социокультурный фон и религиозную картину все же создают именно буддизм и шаманизм. Д. Д. Амоголонова отмечает, что «позиции православия, являющегося главной религией России и номинально исповедуемого большинством населения республики, уступают в общественной значимости буддийско-шаманскому комплексу, являющемуся основной культурной характеристикой региона» [2, с. 17].
Также несмотря на доминантное в истории положение христианства в Российской Федерации и на то, что во времена ее имперства были периоды активной и где-то даже агрессивной христианизации бурятского населения, оно тем не менее остается религией, не занявшей лидирующее положение среди представителей бурятского этноса. Проблема была не столько в самом христианстве и его положениях или какой-нибудь «устойчивости» бурят к христианству, а в самой политике царского правительства, которая была вынуждена уделять большее внимание буддизму как «угрожающему» фактору устойчивости, возможно, и целостности империи в приграничных землях. Попытки сдерживания распространения и дестабилизации положения буддизма могли повлечь за собой проблемы, связанные с оттоком населения в соседнюю Монголию. Основную массу в приграничных монгольских землях составляли верующие буддисты и буддийское духовенство. Россия опасалась большего укрепления монголо-бурятских связей, потери контроля над кяхтинским узлом, связывавшим торговые, экономические и транспортные пути между Китаем и Монголией. Именно этим объясняется лояльная политика царского правительства, благодаря которой буддизм сумел широко распространиться среди бурят. Однако следует отметить, что популяризация буддийских идей и обычаев происходила неравномерно. В первую очередь, оплотом буддизма стали приграничные — южные районы Бурятии, и причины этого вполне понятны из вышесказанного. К. М. Герасимова отмечала, что отношение царского правительства к буддистам в границах империи имело свои существенные различия и оно зависело от роли и значения бурят и других буддистов во внутренней и внешней политике государства. Даже среди бурят наблюдалось это различие: к иркутским бурятам было более жесткое отношение [9, с. 27]. Выгодное территориальное положение с вытекающими перспективами для развития экономики и в политических процессах способствовало созданию крайне благоприятных условий для распространения буддизма.
Вместе с тем другим важным фактором успеха буддизма, наряду с выигрышным геополитическим положением, стали мировоззренческие основания монгольского мира, т. е. значимы были не только политические факторы, но и духовная составляющая. Это было отмечено Л. Е. Янгутовым и И. С. Урбанаевой, которые считают, что «буддийская философия и этика в своих базовых аспектах нашли понимание со стороны бурят во многом благодаря древнему тэнгриан-скому мировоззрению, в рамках которого уже были давно ассимилированы некоторые важные буддийские представления, в частности о реинкарнации и эманациях великих существ» [13, с. 23]. По мнению Л. Л. Абаевой, буддийская религиозная культура как система уже на ранних этапах обладала знаниями о человеке, его поведении в психической и психосоматической перспективе, психоаналитических характеристиках и парапсихологических возможностях, которые вплоть до настоящего времени импонируют современному монгольскому социуму [1, с. 313].
Также значительным фактором стала сама монголо-бурятская ментальность, которая заключалась в отсутствии «у наших предков привычек к онтологическому преувеличению индивидуального «я» и привязанности к собственной самости» [14, с. 23], а также они обладали «многовековой привычкой к созерцательной жизни» [13, с. 23]. В ментальности монгольских народов становятся стереотипными представления о милосердии ко всему живому и даже к растительности, развивается культ образования — ученость и знания оцениваются как высшая цель человеческого бытия [5, с. 158]. Б.-Х. Б. Цыбикова отмечает, что особенности окружающей среды, организация жизнедеятельности бурят в условиях степной, равнинной зоны проявляются в их темпераменте, способе мышления и им присущи «неспешность в быту, взвешенность поступков, обдуманность действий, пространно-философское восприятие окружающего мира, особый психический склад в отношении времени, расстояния…» [11, c. 119]. Поскольку ментальность есть особое свойство сознания, влияющее на восприятие и отношение к чему-либо, то ментальные характеристики бурят, которые были крайне созвучными с некоторыми буддийскими принципами, сыграли важную роль в рецепции его идей.
Другой важной причиной, отмечаемой Ш. Б. Чимитдоржиевым, явилось то, что монгольские племена устали от многочисленных войн и междоусобиц, которые продолжались еще со времен завоевательных походов Чингисхана. Именно желание прекращения подобных условий жизни стало одной из причин благосклонного восприятия буддийского учения, которое проповедовало миролюбие, терпение и любовь к ближнему [12, с. 17].
Говоря о благоприятных факторах необходимо заметить и то, что сама буддийская система обладала уникальными средствами и методами инкорпорации себя в иную социокультурную среду. Эти средства и методы нарабатывались на протяжении многих веков и даже тысячелетий.
В процессе своего развития и распространения буддизм обрел черты религиозного учения со всеми присущими ему ритуалами и прочими религиозными действиями, сакральными образами, святыми местами и т. д., которые являются отражением исторической эволюции его культовой составляющей.
Некоторые исследователи считают, что буддизм после своего славного индийского периода, придя в Центральную Азию и смешавшись с автохтонными верованиями, утратил свои постулаты. Но надо сказать, что сколько бы ни видоизменялись некоторые его элементы, он все равно оставался учением, основной целью которого являлось наставление на пути, ведущему к освобождению из сансарных оков и просветлению.
В период своего расцвета в качестве религиозной системы буддизм включил в себя многие элементы из многих других индийских учений и с выгодой для себя реагировал на общественные процессы в древнеиндийском обществе (утрата доверия к центральной фигуре в обществе — брахманам; недовольство кастовой системой; так называемый «духовный разброд»; расплывчатость религиозных предпочтений и т. д.), но при этом оставался все тем же буддизмом, но расширяющим свои границы и влияние. Ни одна страна и ни одна культура не смогла сточить его идейный стержень, более того, буддизм сам становился лицом целых цивилизаций, государств и национальных культур. Исключением не является и бурятская национальная культура, ранее репрезентировавшаяся шаманизмом.
Здесь очень уместны слова Ю. Н. Рериха: «Повсюду, куда бы ни проникал буддизм, он формировал духовную жизнь и характер народа, обогащал его литературу и искусство и давал ему определенное единство воззрений, что, вероятно, является одним из его величайших достижений» [10, с. 20].
Действительно распространение буддизма на территории проживания бурят открыло новую страницу в истории не только этого этноса, но и в культурной и религиозной картинах мира Российской империи в целом. Приход буддизма знаменовал собой не только смену религиозных приоритетов, но и развитие культуры в целом. Богатейшая и развитая буддийская культура, прошедшая долгий путь развития по мере своего продвижения из Индии и Непала в Тибет и Монголию, совокупные достижения ее искусства и литературы внесли в жизнь бурят новые культурные смыслы и ценности. Буддизм сыграл огромную роль в развитии национальной культуры и просвещении бурят. В стенах буддийских храмов издавалась не только религиозная, но и научная и художественная литература, создавались уникальные произведения живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Буддийские монастыри становились центрами духовного и культурного обогащения и развития, способствовавшими росту образованности и грамотности бурят.
Буддизм сыграл важную роль в процессе оформления бурятского этноса как значимый консолидирующий фактор, а подписание в 1727 г. Буринского договора о разграничении территорий между Российской и Цинской империями окончательно определило дальнейшую судьбу разрозненных бурятских племен, находящихся на монгольско-китайско-российском перепутье в пользу последнего.
Известно, что до этих событий бурятские племена издревле входили в состав великого монгольского государства и все процессы, будь то политические или связанные с духовной сферой, происходили в рамках этого мира. Поэтому начальные этапы распространения буддизма среди бурятских племен должны рассматриваться в этих рамках и знакомство с буддизмом, каким бы оно ни было — поверхностным, эпизодичным или глубоким, — состоялось намного ранее официального отсчета, датируемого 1741 г., когда императрица Елизавета Петровна подписала указ о признании буддизма в России. Не ограничиваясь российскими границами и не слишком уходя в глубь истории, Н. Л. Жуковская дает бо- лее обширную периодизацию буддизма у бурят: первое знакомство с буддизмом, произошедшее еще до присоединения бурятских земель к России (XVI — начало XVII в.); распространение и укрепление буддизма, активное строительство дацанов, формирование культовой практики, просветительская и издательская деятельность дацанов (середина XVII‒XIX в.); пик расцвета (конец XIX — начало XX в. ); разгром буддийской культуры в советское время (конец 20-х гг. — середина 80-х гг. XX в.); возрождение буддизма (начиная с 90-х гг. XX в. и продолжающееся сейчас) [8, с. 123 ].
Вместе с тем, сколько бы веков ни насчитывала история буддизма в общемонгольском мире, так или иначе официальный отсчет истории буддизма среди бурят и в России в целом начинается именно с указа Елизаветы Петровны. По мнению К. М. Герасимовой, 1741 г. является началом формирования церковной организации буддистов и с этого времени дацаны стали выступать в качестве общественных религиозных центров. До этого времени преобладали кочевые домашние молельни в ставках князей 1 [с. 282]. Официальное признание буддизма и установление границ между двумя государствами способствовали началу становления бурятского буддизма со своими особенностями и новшествами, отличными от тех, что были при монгольском подданстве.
До прихода на бурятские земли буддизм прошел долгий и сложный путь и уже претерпел определенные изменения в периоды его распространения среди тибетцев и монголов. Поэтому вполне естественными стали трансформационные процессы в культовой системе буддизма, который начал распространяться в среде бурят, ставших подданными Российской империи, вследствие чего их связи с монгольским миром стали ограниченными. Но стоит заметить, что «российский вакуум» не означал мгновенный и полный разрыв связей с монгольским миром и утрату объединяющих его духовных ценностей.
В этот период позиции шаманизма как главного регулятора социальной и духовной жизни бурят были очень сильны, и он являлся основным религиозным ориентиром, определявшим его культуру, повседневный быт и обычаи. Но, как отмечают исследователи, «внутренний потенциал буддизма, толерантность, открытость, умение заимствовать чужие обычаи и традиции, а также его консолидирующая роль обеспечила ему социальную востребованность, что позволило в дальнейшем стать неотъемлемой частью культуры бурятского общества, его мировоззрением и образом жизни» [5, с. 169].
Как было отмечено выше, буддизм еще со своего индийского периода был подвержен изменениям и вынужденно включал в свою систему многие элементы из индийских религиозных традиций, отражавших не только духовные ценности, но и социальные и политические процессы, происходившие в Индии. Аналогичный характер события приняли позднее в Тибете, в Монголии, а затем и в Бурятии. Становление буддизма в Бурятии проходило в контексте взаимовлияния и взаимодействия с шаманизмом, что вносило свои коррективы. Но эти изменения происходили по большей части в его культовой сфере, поскольку центральные идеи буддизма не меняли своей сути, но расширялись границы буддизма как в территориальном плане, так и в содержательном, за счет введения им в свою систему культовых традиций автохтонных верований. О том, что буддизм в Бурятии не поменял своей сути, отмечают Л. Е. Янгутов и И. С. Урбанаева, утверждающие, что буддизму «не пришлось мимикрировать под местные формы духовности — он здесь, так же, как в Тибете и Монголии, вобрал в свою ритуальную систему некоторые обрядовые элементы традиционной бурятской культуры, не искажая свое мировоззренческое, философское и духовное содержание» [13, с. 23]. С.-Х. Д. Сыртыпова отмечает, что буддизм «как вода, принимающая форму сосуда, но не меняющая имманентных ей свойств», обладает глубокой потенцией к адаптации в разных социально-географических и историкокультурных условиях и не теряет при этом своей доктринальной сущности [4, с. 160].
Несмотря на все отмеченные благоприятные условия, внутренний потенциал, доктринальную мощь, буддийская система в Бурятии все-таки претерпела некоторые изменения. Культовая система, причем, уже подвергшаяся некоторым изменениям, строилась не на пустом месте, а на существующих традициях и обычаях, иногда перерабатывая их, иногда напластовываясь и контаминируясь с ними. Поскольку религиозное поле было занято шаманизмом, то все перипетии были связаны именно с ним. Буддизм и шаманизм как взаимодействовали, так и противостояли друг другу, и эти отношения в дальнейшем переросли в более выгодное для обеих сторон взаимовлияние с обоюдными адаптивными процессами. Буддисты изначально не акцентировали внимание на том, что необходимо пропагандировать глубокие философские положения своего учения, но сделали упор на наращивание своего влияния через наиболее востребованные и популярные шаманские обряды и культы. Поскольку буддизм в Бурятии придерживался аналогичных ассимиляторских и адаптационных схем, что в Тибете и Монголии, то в первую очередь ассимиляции подвергались ключевые, социально значимые религиозные обряды, связанные с почитанием покровителей рода, этнической группы; универсальный культ хозяев местности, который распространялся практически на сферы жизнедеятельности; культ шаманских предков; традиционные календарные обряды и др. [9, с. 117]. Все эти культы и обряды находили буддийскую интерпретацию и отправлялись уже не по воле шаманских духов, олицетворявших предков и прочие сверхъестественные силы и явления, и не по шаманскому сценарию, а по буддийским правилам, которым начали следовать сами эти духи. Как пример возможности включения автохтонных божеств в культовую орбиту буддизма можно упомянуть категорию божеств «дамчены» или «дамжаны», что в переводе с тибетского означает «давший обет, связанный клятвой». Этот своего рода универсальный прием обращения небуддийских божеств путем присяги учению применялся великим йогином Падмасамбхавой при усмирении бонских божеств и включении их в буддизм. Доржи Банзаров по этому поводу писал, что проповедники буддизма вводили в свой пантеон ряд местных божеств, пользовавшихся особым почитанием у жителей, основные священные шаманские места объявлялись буддийскими святынями, также буддизации под- вергались и различные легенды [3, с. 55]. В целом же распространители буддизма, уступая местным традициям, не старались искоренять шаманские обычаи, а чтобы легче и скорее усилить свое влияние, упрощали учение, делая его более доступным для восприятия мирян.
Особое значение в процессе ассимиляции добуддийских верований имели обряды жизненного и хозяйственно-природного циклов. Буддизм также не смог бы укрепить свои позиции, не проникнув и в структуру семейно-родового уклада. Для этого необходимо было включиться в наиболее популярные общественнородовые культы. Так, культ семейных и личных покровителей заменялся буддийскими сахюсанами — покровителями или защитниками, или божествами категории срунма [6, с. 7].
В результате всех этих процессов начала складываться особая местная форма буддизма, своего рода региональная форма, которая, по мнению К. М. Герасимовой представляет собой целостную систему вероучения и культа, определенное единство разнородных структурных элементов, создавшееся за счет идейных уступок и в процессе идейного взаимоприспособления буддизма и автохтонных верований [7, с. 16].
Бурятский буддизм, характеризующийся как следующий тибетским традициям, в процессе распространения и утверждения среди бурят приобрел черты национально-территориальной формы буддизма, основанной на вариативной форме тибето-монгольского буддизма. Буддизм в Бурятии представлен традицией гелук, за исключением единичных школ других направлений. В бурятском буддизме сложилась своеобразная культовая система, в первую очередь связанная с отправлением различных ритуалов, которая реализуется на храмовом, бытовом и личностно-индивидуальном уровне. Буддийский ритуал присутствует практически во всех сферах жизни большинства бурят — с рождения до самой смерти. Для некоторых это ежеутреннее угощение сабдаков (божеств-духов местности) или обновление алтаря, это обращение в дацан или простое его посещение для удовлетворения духовных потребностей, успокоения и т. д., это также и обращение к служителям буддийского культа — ламам с определенными проблемами и вопросами и т. д. Все это — то, что касается храмового и бытового уровня и житейско-прагматической ориентированности. А индивидуальноличностный уровень остается в границах проявления религиозности отдельно взятого индивида.
Что касается шаманских традиций, также как и буддизм, они очень распространены среди бурят и весьма значимы в их религиозной и культурной жизни. Тем не менее исследователями отмечается преобладание буддийской традиции, в частности, Д. Д. Амоголонова говорит о том, что «буддизм является национальной религией, интеграционным фактором и важным компонентом бурятской национальной идеи, в конструировании которой буддизму отдается предпочтение» [2, с. 19].
Совокупность множества факторов, отмеченных выше, способствовала возникновению своеобразного местного «осевого времени» для буддизма в Бурятии, когда сформировалось столько благоприятных условий для ее успешного рас- пространения. За века своего распространения и утверждения буддизм сумел занять доминирующие позиции в социокультурном пространстве бурятского общества в сравнении с шаманизмом — исконной религиозной традицией и христианством — мировой религией, доминирующей в целом по России, но не сумевшей укрепиться среди бурят. Буддизм сыграл важную роль в формировании бурятского этноса и его дальнейшем развитии. В настоящее время, будучи этно-дифференциирующей религией, буддизм также презентует и республику в целом.
Список литературы К вопросу об основаниях распространения и становления буддизма в Бурятии
- Абаева Л. Л. Особенности рецепции и аккультурации буддийских идей и практикмонгольскими народами России, Монголии и Внутренней Монголии КНР // Буддизм Ваджраяны в России: актуальная история и социокультурная аналитика: материалы VI Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 19–22 октября 2018 г. Санкт-Петербург: Алмазный путь, 2020. С. 306‒315. Текст: непосредственный.
- Амоголонова Д. Д. Религиозное возрождение в пространстве межкультурного взаимодействия (на материалах современной Бурятии) // Проблемы религиозного просвещения в российско-монгольском трансграничье. Вопросы межконфессионального диалога: сб. науч. ст. Улан-Удэ: НоваПринт, 2012. С. 16–24. Текст: непосредственный.
- Банзаров Д. Собрание сочинений. Москва: Политиздат, 1955. 374 с. Текст: непосредственный.
- Буддизм в истории и культуре бурят / И. Р. Гарри, С.-Х. Д. Сыртыпова, Н. В. Цы-ремпилов [и др.] Улан-Удэ: Буряад-Монгол ном, 2014. 418 с. Текст: непосредственный.
- Буддизм в социокультурных и политических процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы / ответственный редактор Л. Е. Янгутов. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2016. 456 с. Текст: непосредственный.
- Герасимова К. М. Мировоззренческая и социальная основа синкретизма ламаистской религии: диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Улан-Удэ, 1989. Текст: непосредственный.
- Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. 320 с. Текст: непосредственный.
- Жуковская Н. Л. Буддизм и шаманизм как факторы формирования бурятскогоменталитета // О буддизме и буддистах: статьи разных лет, 1960‒2011. Москва: Ориента-лия, 2013. 476 с. Текст: непосредственный.
- Галданова Г. Р., Герасимова К. М., Дашиев Д. Б. Ламаизм в Бурятии XVIII —начала XX века. Структура и социальная роль культовой системы. Новосибирск: Наука, 1983. 232 с. Текст: непосредственный.
- Рерих Ю. Н. Статьи, лекции и переводы. Самара: Агни, 1999. 368 с. Текст: непосредственный.
- Цыбикова Б.-Х. Б. Ментально-духовные аспекты культуры бурят внутренней Монголии КНР по материалам полевых исследований // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2018. № 4(22). С. 117‒123. DOI 10.23951/2307-6119-2018-4-117-123. Текст: непосредственный.
- Чимитдоржиев Ш. Б. Была ли цивилизация у бурят? Раздумья монголоведа. Улан-Удэ: Бэлиг, 1996. 82 с. Текст: непосредственный.
- Янгутов Л. Е., Урбанаева И. С. Буддизм и буддология в Бурятии // Вестник БНЦСО РАН. № 3(15). 2014. С. 20‒41. Текст: непосредственный.