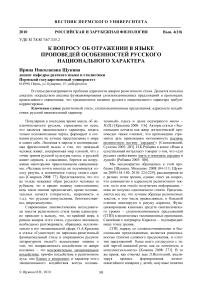К вопросу об отражении в языке проповедей особенностей русского национального характера
Автор: Щукина Ирина Николаевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 4 (10), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема адресности жанров религиозного стиля. Делается попытка доказать посредством анализа функционирования сложноподчиненных предложений в проповедях православного священника, что традиционное видение русского национального характера требует корректировки.
Религиозный стиль, сложноподчиненные предложения, адресность воздействия, русский национальный характер
Короткий адрес: https://sciup.org/14728898
IDR: 14728898 | УДК: 81?38:81?367.335.2
Текст научной статьи К вопросу об отражении в языке проповедей особенностей русского национального характера
Популярная в последнее время мысль об исключительности русских, стремление во всем, что касается национального характера, видеть только положительные черты, формирует в сознании русских не лучшее представление о мире и самих себе. Лелеемая в народе и подтверждаемая фразеологией мысль о том, что западный человек живет, воспринимая мир головой, что с точки зрения русской культуры плохо, а русский живет сердцем, к сожалению, берется на вооружение некоторыми православными священниками. «Человек почти никогда не подчиняется голосу разума, а подчиняется голосу своего сердца» [Смирнов 2008: 77]. Представляется, что это не только искажает образ русского человека за рубежом, но и вредит нашему самосознанию, ведь такое мнение предполагает, кроме положительных качеств (открытость, искренность и т.д.), что русские импульсивны, безответственны, непредсказуемы.
Современные лингвистические исследователи текстов религиозного стиля также единодушно приходят к выводу, что, по крайней мере, в рамках жанров этого стиля, с русским человеком необходимо разговаривать, обращаясь исключительно к его эмоциональной сфере. О.А.Крылова в статье «Существует ли церковно-религиозный функциональный стиль в современном русском литературном языке?» высказывает мнение о том, что направленность воздействия «в жанре послания – это исключительно эмоциональное воздействие, причём воздействие в религиозном духе, оно близко к внушению, и характер этого эмоционального воздействия всегда положи- тельный» (здесь и далее подчеркнуто мною – И.Щ.) [Крылова 2000: 116]. Авторы статьи «Экспликация догмата как жанр догматической проповеди» также считают, что проповедник стремится дать прихожанам «возможность постичь религиозную истину ‘сердцем’» [Салимовский, Суслова 2005: 283]. Н.К.Рябцева в книге «Язык и естественный интеллект» говорит о том, что «для русских свойственно знать и понимать сердцем и душой» [Рябцева 2005: 180].
Мы неоднократно обращались к этой проблеме [Щукина, Михеенко 2008:104-113; Щукина 2009:144-150; 2010: 224-229], рассматривая ее с разных точек зрения, однако ответ на вопрос, что доминантно в адресности религиозного текста: racio или emotio получателя информации, – пока не получил однозначного ответа. Представляется все же, что лучшие образцы религиозных текстов, в том числе православных, в большой степени апеллируют к разуму адресата. Функционирование языковых средств синтаксического уровня – сложноподчиненных предложений (СПП) в религиозных телевизионных проповедях Святейшего патриарха Кирилла – подтверждает нашу точку зрения.
СПП, наряду со сложносочиненными и бессоюзными предложениями, являются разновидностью (типом) сложного предложения, и «этот тип предложений более всего согласуется с такой чертой книжной речи, как ее логичность и интеллектуальность» [Кожина 2008: 271]. В то же время, как отмечал еще Л.Выготский, анализируя процесс формирования логикопонятийного аппарата у детей, «научные понятия не обнаруживают своего превосходства над житейскими. Это не может найти другого объяснения, кроме того, что категория противительных отношений, более поздно созревающих, чем категория причинных отношений, появляется и в спонтанном мышлении ребенка более поздно» [Выготский 2008: 363], однако a priori известно, что в целом СПП – лингвистическая модель, отражающая интеллектуальное развитие человека. Сложноподчиненным предложением в аспекте функциональной стилистики фундаментально занимались М.Н.Кожина и И.Б.Голуб. М.Н.Кожина считает: «Сложное предложение оказывается тем синтаксическим средством, которое позволяет наилучшим образом выразить и оформить, например, сложные логикопонятийные связи» [Кожина 2008: 265].
Одна из характерных особенностей религиозного стиля в его не только письменной, но и устной речи – отсутствие просторечной и наличие высокой лексики, свойственной книжной речи, а также частотное употребление сложноподчиненных предложений. Исследователи отмечают, что «сложноподчиненные предложения отличаются более книжным характером, чем сложносочиненные, и высокой частотой употребления в сфере книжной речи, хотя такое заключение также не имеет абсолютного характера» [Кожина 2008: 271]. Структура сложноподчиненных конструкций, синтаксическое «поведение» компонентов предопределяются семантикой связи между ними.
Структура СПП и функции, выполняемые ими в тексте, различны и зависят от того, к какому стилю относится данный текст.
-
1. Научный стиль: широкое употребление сложноподчиненных предложений обусловлено необходимостью выражения здесь сложных взаимосвязей явлений и в целом – строгой последовательностью и логичностью изложения.
-
2. Разговорный стиль: сложные и, в частности, сложноподчиненные предложения есть, но они обычно отличаются простотой конструкции (как правило, в предложении не более одного придаточного), неразвернутостью членов предложения и, следовательно, небольшими размерами: средняя величина не более 9 слов».
-
3. Официально-деловой стиль: «официальноделовая речь менее, чем научная, прибегает к сложноподчиненным предложениям, так как ей менее свойственно рассуждение» [Кожина 2008: 271-272].
Функции СПП в разных стилях отражаются в видах придаточных предложений: «так, художественной речи в целом более свойственны придаточные временные, обстоятельственные (мес- та), тогда как в научной речи сравнительно большой процент приходится на придаточные причины и условия. Определительные же и изъяснительные придаточные предложения широко употребительны в разных видах речи, составляя в них довольно большой процент, поэтому их можно считать стилистически нейтральными» [Кожина 2008: 273].
Очевидно, что функционирование сложноподчиненных предложений в текстах различных стилей речи можно рассматривать как их функционально-стилистическую особенность, в том числе и потому, что наличествующие в них СПП разного типа предопределяют решение различных коммуникативных задач.
Итак, чтобы удостовериться в том, что русское сознание способно воспринимать не только тексты, обращенные к эмоциональной сфере, но и тексты, апеллирующие к интеллекту адресата, мы рассмотрели сложноподчиненные предложения в жанрах религиозного стиля на материале телевизионных проповедей Патриарха Кирилла в бытность его митрополитом Смоленским и Калининградским. Нами было проанализировано 1020 предложений, из них 402 СПП разного типа, что составило 18 687 словоупотреблений. В ходе анализа материала были сделаны следующие наблюдения: во всех исследованных текстах проповедей употреблены сложноподчиненные предложения. Однако при этом наблюдаются различия в их количественной представленности в той или иной проповеди. В целом предложений с простой конструкцией (одно придаточное) в проанализированных проповедях – 47%; с двумя – 34%; с тремя и более – 19%.
Следует отметить, что среди употребленных типов СПП преобладают конструкции с изъяснительными и определительными придаточными (39% и 38% соответственно от общего числа СПП), что отмечено в текстах других функциональных стилей. Так, И.А.Смирнова в работе «Сложноподчиненные предложение в функционально-стилистическом аспекте» указывает на то, что «в отношении текстов этих функциональных стилей ( научного, публицистического, художественного ) следует отметить тенденцию к преобладанию СПП с изъяснительными придаточными в общем количестве сложноподчиненных предложений» [Смирнова 2007].
В исследованных текстах с той или иной частотностью употребляются СПП с придаточными цели ( Господь Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы человек вошел в полноту жизни – Проповедь «О спасении и Царстве Божием), причины ( Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, – говорит Слово Божие – Проповедь
«О вере»), следствия и условия ( Как свидетельствует церковное предание, еще до Своего Рождения Дева Мария была предочищена Духом, так что последствия первородного греха на Нее не распространились – Проповедь «О Матери Божией»; Если мы живем во лжи и в скверне, то не увидим Бога, не почувствуем Его сердцем своим, не прикоснемся к Нему своим разумом – Проповедь «О вере»), времени ( И когда в Назарете Архангел Гавриил явился Деве Марии с благой вестью о том, что от Нее родится Сын Божий, Она ответила с покорностью воле Творца – Проповедь «О Матери Божией»), места ( И какие бы добрые, хорошие слова один из супругов ни произносил, там, где нет любви – нет чистоты отношений и единства – Проповедь в Неделю Торжества Православия), сравнения ( Как невозможно видеть глазами без света или говорить без языка <…> так невозможно человеку спастись и войти в Царство Небесное без Господа Иисуса – Проповедь «О Спасении и Царстве Божием»).
В ходе анализа было выявлено также, что количество сложноподчиненных конструкций со значением цели (9%), причины (12%), следствия и условия (10,9%) почти в два раза превышает число употреблений СПП со значениями времени (9,6%), места (2,7%), сравнения (1,7%).
Тенденция к преобладанию СПП со значением обусловленности характерна для текстов научного стиля, что определяется такой его специфической чертой, как подчеркнутая логичность. Именно эти типы сложноподчиненных предложений в большей степени призваны выражать логико-грамматические связи между его отдельными частями, что в целом отражает последовательность и логическую связь мыслей в текстах научного стиля, а также подтверждает выдвинутую нами прежде гипотезу о преобладании рациональной адресности в проповедях определенного типа.
СПП со значением времени, места и сравнения в большей степени характерны для текстов художественного стиля. Как отмечает И.Б.Голуб, «в художественной речи, где сложноподчиненные предложения с придаточными частями времени встречаются в четыре раза чаще, чем в научной, широко используются «чисто временные» значения этих придаточных; причем с помощью разнообразных союзов и соотношения временных форм глаголов-сказуемых передаются всевозможные оттенки темпоральных отношений: длительность, повторяемость, неожиданность действий, разрыв во времени между событиями и т.д.» [Голуб 2001: 412], тогда как в текстах научного стиля СПП с придаточными времени могут иметь дополнительное условное значение. «Совмещение условного и временного значений в ряде случаев приводит к большей отвлеченности и обобщенности выражаемого ими содержания, что соответствует обобщенно-отвлеченному характеру научной речи» [Голуб 2001: 411-412].
В проанализированных нами СПП были выявлены предложения с придаточными условия, где можно отметить подобную синкретичность условного и временного значения: Ибо когда мы любим другого человека, чтобы им наслаждаться, то мы через него себя самих любим, а не его (Проповедь «О Святой Троице»); Когда же мы, порой сами того не желая, подчиняемся чуждому внушению, поддаемся губящему нас дьявольскому искушению и творим зло, то прибиваемся к миру падших духов тьмы (Проповедь «Об ангелах»).
СПП с придаточными сравнительными в художественном тексте выступают средством создания образности и выразительности. Употребление же придаточных со значением сравнения в научной речи направлено на выявление «логических связей между сопоставляемыми фактами, закономерностями» [Голуб 2001: 412]. В СПП со сравнительным значением большая часть не является средством создания образности, а выражает именно последовательность и логическую связь между частями СПП: Это означает, что каждый человек связан с другим человеком наподобие того, как связаны узами родства братья и сестры (Проповедь «О спасении и Царстве Божием»); Религиозное чувство присуще человеческой природе так же, как, к примеру, музыкальный слух (Проповедь «О вере»).
Наибольший процент употребления СПП обнаружен в проповеди «О Святой Троице». По мысли проповедника, Святая Троица недоступна пониманию человеческим разумом, это некая тайна, которую людям познать не дано, потому что Бог и человек суть величины несоизмеримые; потому что критерии человеческого мышления, которые основываются на опыте нашей жизни, неприменимы к познанию Божественной. А поскольку разумом невозможно понять, необходимо верить, не требуя особенных аргументов, но и здесь, апеллируя в основном к религиозным чувствам слушающих и даже эксплицируя по традиции отказ от обращения к интеллекту слушателя, священник опирается на логику: Говоря, что …человек познает Бога не разумом, а глубиной своего религиозного чувства, автор опирается на рациональность эмоционального, что подтверждается применением логических средств аргументации, например аналогии, ср.: Нам остается лишь использовать аналогии для того, чтобы приблизиться к пониманию тайны Божественной жизни. В этой проповеди священник использует преимущественно определительные и изъяснительные СПП (19 и 14 предложений соответственно из 40 СПП), т.е. стилистически он более близок публицистической или художественной разновидности языка, а не научной.
Результаты анализа позволяют нам сделать следующие выводы:
– В текстах проповедей преобладают сложноподчиненные конструкции с изъяснительными и определительными придаточными, что характерно и для других стилей речи. Как уже было отмечено, их можно считать стилистически нейтральными.
– Функционирование типов СПП в целом в текстах религиозного стиля соотносится с функционированием таких конструкций в текстах научного стиля, а не в публицистических, как это принято считать в последнее время. Однако в отдельных случаях употребление СПП соответствует основной функции публицистического стиля, и тогда происходит рационализация эмоционального воздействия.
– Преобладание СПП с семантикой цели, причины, следствия и условия выражает последовательность, логическую связь мыслей, отражает закономерные связи между рассматриваемыми в тексте проповеди фактами и явлениями. Это позволяет подтвердить ранее выдвинутую нами гипотезу о том, что наряду с эмоциональным воздействием в проповедях осуществляется и рациональная адресность, а в ряде случаев такая адресность является доминантной.
– Наше исследование позволяет предположить, что общепринятое мнение о том, что русские «живут сердцем» и сердцем воспринимают мир, несколько поверхностно, скорее дань традиции. Как и европейское, русское сознание требует обращения к рациональной составляющей текста, убедительной аргументации, и в религи- озных текстах даже эмоциональное воздействие часто достигается рациональными средствами убеждения.
Associate Professor of the Russian Language and Stylistics Department
Perm State University
Список литературы К вопросу об отражении в языке проповедей особенностей русского национального характера
- Выготский Л.С. Мышление и язык. М., 2008. 668 с.
- Голуб И.Б. Стилистика русского языка. 3-е изд., испр. М.: Рольф, 2001. 448 с.
- Кожина М.Н. Стилистика русского языка/М.Н.Кожина, Л.Р.Дускаева, В.А.Салимовский. М.: Флинта: Наука, 2008. 463 с.
- Крылова О.А. Существует ли церковно-религиозный функциональный стиль в современном русском литературном языке?//Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000. C. 107-118.
- Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. М., 2005. 639 с.
- Салимовский В.А., Суслова К.А. Экспликация догмата как жанр догматической проповеди//Жанры речи. Вып. 4. Саратов, 2005. С. 280-292.
- Смирнов Димитрий протоирей. Т.6. Проповеди. М., 2008. 320 с.
- Смирнова И.А.Функционирование СПП в текстах различных стилей 2007. http://www.lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2007/19/smirnova_ia.doc.pdf> (дата обращения: 27.01.10)
- Щукина И.Н., Михеенко Д.М. Адресация воздействия в жанрах религиозного стиля//Вестник Пермского университета. Филология. Вып. 3 (19) 2008. С. 104-113.
- Щукина И.Н. Межкультурная интерференция в телевизионных текстах религиозного стиля//Медиа, демократия, рынок в современном обществе. СПб, 2009. С. 144-150.
- Щукина И.Н. Адресность религиозных программ российского телевидения//Досуговая журналистика в России. СПб, 2010. С. 224-229.