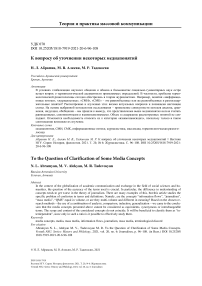К вопросу об уточнении некоторых медиапонятий
Автор: Абрамян Н.Л., Алекян М.В., Тадевосян М.Р.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Теория и практика массовой коммуникации
Статья в выпуске: 6 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В условиях глобализации научного общения и обмена в большинстве социально-гуманитарных наук остро встает вопрос о терминологической адекватности применяемых определений. В частности, проблема терминологической разноголосицы сегодня обострилась в теории журналистики. Например, понятия «информационные потоки», «журналистика», «СМИ», «СМК» - это равнообъемные или же разнообъемные и разносодержательные понятия? Рассмотрению и изучению этих весьма актуальных вопросов и посвящена настоящая статья. На основе выбранной методологии исследования - применение совокупности методов анализа, сравнения, индукции, обобщения - мы пришли к выводу, что представленные выше медиапонятия нельзя считать равноценными, синонимичными и взаимозаменяемыми. Объем и содержание рассмотренных понятий не совпадают. Отмечается необходимость относить их к категории «взаимозависящих», поскольку только в таком соотношении возможно их изучение.
Медиапонятия, сми, смк, информационные потоки, журналистика, масс-медиа, терминологическая разноголосица
Короткий адрес: https://sciup.org/147234558
IDR: 147234558 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-6-96-108
Текст научной статьи К вопросу об уточнении некоторых медиапонятий
Abramyan N. L., Alekyan M. V., Tadevosyan M. R. To the Question of Clarification of Some Media Concepts. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 6: Journalism, p. 96–108. (in Russ.) DOI 10.25205/ 1818-7919-2021-20-6-96-108
В условиях глобализации научного общения и обмена в большинстве социально-гуманитарных наук остро встает вопрос о терминологической адекватности применяемых определений. В частности, проблема терминологической разноголосицы сегодня обострилась в теории журналистики. С уходом из пространства научного дискурса «советских» концепций во многих гуманитарных дисциплинах наметилась тенденция отказа от прежних определений, вместо которых впоследствии стали употребляться термины из англоязычной литературы. Так, в теорию журналистики проникли такие понятия, как средства массовой коммуникации, массмедиа, масскоммуникации и др. (заметим, что в научной литературе к данным понятиям обратились раньше, в 1970-е гг., но массово на постсоветском пространстве они стали употребляться только после развала страны). Однако некритичное заимствование подобных терминов привело к появлению проблемы смыслового «диссонанса». Как в этом случае соотносятся, например, понятия журналистика , СМИ и массмедиа ? Это равнообъемные или же разнообъемные и разносодержательные понятия?
Не удивительно поэтому, что сегодня для профессионального научного сообщества вопрос терминологической модернизации – введение новых терминов, трансформация содержания уже устоявшихся (их расширение или ограничение) и т. д. – является очень актуальным и важным. И, кстати, самым обсуждаемым. Причин для возникновения подобной проблемы много, и связаны они отчасти с теми изменениями социально-политического, экономического, технологического толка, которые переживает современное общество. Комплекс данных обстоятельств обострил проблему терминологической эквивалентности употребляемых определений, в связи с чем встает вопрос об уточнении некоторых понятий, относящихся к журналистике.
Последнее является очень важным и в контексте изучения современных информационных потоков (ИП). Не раз в процессе исследования и обзора литературы по данной теме мы сталкивались с ситуацией, когда авторы ставили вопросы: а тождественны ли понятия «информационные потоки» и, например, «средства массовой информации» или «информационные потоки» и «средства массовой коммуникации»? Чем сходны концепты журналистика и информационные потоки ? Каковы их отличительные черты?
Однако насколько оправдано и обосновано обращение к подобным вопросам? Ведь прежде, как нам видится, необходимо разобраться, как, собственно, данные понятия – «информационные потоки», «журналистика», «СМИ», «СМК» – соотносятся между собой. Как сказал бы логик, совпадают ли объемы и содержания указанных понятий? Неверная оценка их может стать причиной разночтения и терминологического, и содержательного. На актуальность разграничения данных понятий указывает ряд теоретиков и исследователей медиа: С. В. Ануфриенко [Актуальные вопросы…, 2017], В. П. Терин [2000], И. В. Кирий и А. А. Новиков [2017], М. М. Назаров [2010], Е. Л. Вартанова 1. Именно Вартанова, одна из первых представителей московской школы теории журналистики, заявила, что понятия, например, «журналистика» и «СМИ» не являются близкими, взаимозаменяемыми и синонимичными, приведя в пользу этого тезиса ряд аргументов и доводов, а именно: понятия «СМИ» и «журналистика» различаются, с одной стороны, по сфере функционирования, с другой – по их сущности. Журналистика – профессия очень конкретная, прикладная. Задача журналиста очевидна – найти новость, изложить ее в том виде, в каком это требуется для конкретного органа СМИ, и в принципе на этом она может считаться выполненной. Встроить эту новость в более широкий информационный контекст, передать ее затем аудитории должен уже не журналист, а редакция, медиаорганизация, фактически – канал СМИ. По словам Вартановой, журналистика применительно к СМИ – это, безусловно, прежде всего содержание, или, как все чаще говорят в исследованиях СМИ, контент (от англ. content – содержание) 2.
Однако (с учетом вызовов нашего времени, которым должны соответствовать массовые коммуникации) встает вопрос о том, достаточна ли эта аргументация для разграничения этих двух понятий. Исследователь М. М. Назаров в работе «Массовая коммуникация и общество: Введение в теорию и исследования» отмечает, что в современном научном и повседневном языке, наряду с понятием «массовая коммуникация» используется понятие «медиа» [2010. С. 6], при этом не уточняя, как именно эти понятия соотносятся друг с другом, насколько уместно использование понятия «медиа» наряду или вместо «массовая коммуникация», равнообъемны и равносодержательны ли они.
В литературе по этим вопросам выделяется статья Р. Крейга [Craig, 1999. Р. 134]. В этой работе Крейг, подобно другим авторам, утверждает, что теория коммуникаций как определенная область исследования пока еще не существует (хотя с момента публикации статьи прошло 22 года, но ситуация, кажется, в принципе не изменилась). В частности, между исследователями нет согласия относительно содержания самого термина «коммуникация». Крейг полагал, что исследователям в области теории коммуникаций необходимо вступить в диалог, чтобы понять причины трений между различными теориями.
Оригинальность и эвристическая сила подхода Крейга заключается в другом: его отличает высокий уровень научной рефлексии, благодаря которой сам автор очень точно квалифицирует его как мета теорию, т. е. теорию о теории / теориях. Действительно, теорий коммуникации уже столько, что они нуждаются в упорядочивающей их метатеории.
Можно спорить с классификацией теорий коммуникации Крейга, приводимой в этой работе (так, могут быть подвергнуты сомнению основания его классификации: неудачно, на наш взгляд, упоминание наряду с риторической и семиотической традицией, соотносимых с соответствующими отраслями знания, также и критической модели, ни с какой отраслью знания не соотносимой), однако общий вывод из его работы заслуживает внимания: эти теории могут, конечно, и дальше развиваться изолированно, но это путь тупиковый; при этом нежелательно также и произвольное их смешение, так что необходимы усилия по их координированию. Собственно, таково, думается, положение для всех тех дисциплин, которые имеют общий объект, но разные предметы.
Выявление и постановка названных нами вопросов и делает необходимыми усилия в том направлении, чтобы концептуально договориться о сфере применения используемых определений, установить объемно-содержательные связи между ними.
Но прежде чем приступить к вопросу об уточнении соотношения данных понятий, попытаемся помочь себе традиционным для науки способом, т. е. обратимся к их определениям.
Как мы знаем, слово журналистика происходит от фр. journal , означающего «ежедневник», которое, в свою очередь, происходит от jour – день, восходящее к лат. dies – день. Производными корнями от последнего являются, например, diurnum – хроника, дневник, журнал; diurnu – ежедневный, дневной; diurnale – ежедневник, ежедневная газета (не зря в названиях цезаревских изданий непременно присутствовало слово diurna ). Как видим, в исходные значения слов, от которых происходит журналистика , включены все те элементы, которые, собственно, составляют сущность журналисткой деятельности: это и понятия ежедневности, и новизны, и своевременности, и непрерывности, и хроникальности.
Определяя понятие «журналистика», исследователи указывают на широкое семантическое наполнение данного термина, в соответствии с чем определяют журналистику через ряд категорий: журналистика как особый социальный институт , журналистика как система видов деятельности , журналистика как совокупность профессий , журналистика как система произведений , журналистика как комплекс каналов передачи массовой информации.
Автором предложенной схемы является видный российский исследователь Е. П. Прохоров [2009. С. 16–17]. Естественно, не все теоретики разделяют этот подход, подмечая, что мы резко ограничиваем понятие о журналистике, определяя ее через какой-нибудь один элемент системы: то как социальный институт, то как систему произведений, то как комплекс каналов передачи массовой информации и т. п. В связи с этим и предлагаются свои версии трак- товки данного понятия. Например, Е. В. Ахмадулин определяет журналистику как социальную систему, основной целью которой является поиск, обработка и дискретное распространение актуальной социальной информации [2017. С. 20]; Г. В. Чевозерова, расширяя прежние представления о журналистике, относит ее к одной из форм оперативного отражения реальной действительности в периодически распространяемой информации [2013. С. 14]. Приняв справедливость указанных уточнений, заметим, что изученная нами литература позволяет сделать и другой вывод: схема Прохорова все же является базовой и универсальной. Ведь, так или иначе, многие определения строятся вокруг предложенных автором категорий. Например, журналистику как профессию определяют Everett C. Hughes, Magali Sarfatti Larson, Eliot Freidson, John Solosk, James W. Carey. Группа теоретиков в составе Oscar H. Gandy Jr., Peter Golding, Graham Murdock, Ben H. Bagdikian, Paddy Scannell, Nancy Morris, Silvio Waisbord рассматривают журналистику как институт; Robert Damron и Roger Fowler обозначают журналистику как текст; а Tuchman определяет журналистику как набор практик по сбору, созданию и распространению новостей [Zelizer, 2005. Р. 66–80]. Западной научной мысли свойственно также определение журналистики через людей, служащих этой профессии, т. е. через самих журналистов (Journalism as People – Nicholas Tomalin, John WC. Johnstone, Edward Slawski and William W. Bowman, David H. Weaverand G. Cleveland Wilhoit [Ibid.]). Кстати, такой метод крайне редко можно встретить в российских исследованиях. Если обратимся к наиболее частотным словарным определениям понятия «журналистика» 3, заметим, что в большинстве случаев и они опираются на те положения, которые предлагает Прохоров.
В чем преимущество концепции Прохорова? Она предлагает системный подход к определению. Да, журналистика – это одновременно и социальный институт, и система видов деятельности, и совокупность профессий, и система произведений, и комплекс каналов передачи информации массовой аудитории. Неверно рассматривать в отрыве представленные концепты: ни один из них в отдельности не может передать всего того, что мы знаем о журналистике. Но каждый из них очень важен и полезен, поскольку, во-первых, предлагает свой собственный подход к изучению, а во-вторых, вместе взятые, они дают нам наиболее полную картину о таком явлении, как журналистика – богатом, противоречивом, сложном (что объясняется самой ее природой).
Что касается термина «СМИ» (средства массовой информации), в научной среде также возникли определенные разночтения. Достаточно сравнить некоторые, наиболее часто встречаемые, словарные определения данного понятия, чтобы убедиться в этом (например, определения в следующих словарях: Большая актуальная политическая энциклопедия [Беляков и др., 2009. С. 378], Политический словарь [2004. С. 367], Реклама и полиграфия [Стефанов, 2004. С. 280]). Получается, в одном случае, согласно определению словаря рекламы и полиграфии, средства массовой информации – это средства тиражирования, хранения и распространения информации для массовой аудитории, в другом, по определению Большой актуальной политической энциклопедии, – комплекс изданий и технических средств, в третьем, по определению Политического словаря, – результат коллективной деятельности, получившей форму периодического издания, и т. п. Очевидно, что существуют определенные разночтения в терминах, но, с другой стороны, это является неизбежным в силу того, что у каждой научной дисциплины и каждого исследователя, в частности, свое ви́дение и свой аспект изучения. Поэтому, если мы закроем глаза на некоторую «разнопонимаемость» термина, получим, что под СМИ понимается комплекс каналов распространения информации массовой аудитории, – ведь именно данный элемент определения так или иначе фигурирует во всех вышеприведенных толкованиях СМИ и является концептообразующим для них. Кроме того, согласно и юридическому толкованию, как в российских, так и в армянских законодательных актах (в частности, в Законе РФ «О средствах массовой информации» и Законе РА о «О массовой информации») закрепилось определение СМИ как системы каналов передачи массовой информации.
Однако нельзя не отметить, что в российских, как и в армянских, исследованиях сложилось намного более широкое толкование понятия СМИ, и весьма часто оно ассоциируется с явлением более масштабным, нежели совокупность каналов массовой информации. Отчасти данное обстоятельство можно объяснить историей происхождения и употребления этого понятия как в России, так и в ряде постсоветских стран. И это неудивительно, нередко использование того или иного термина определяется именно традициями его применения различными научными школами в разных странах мира.
Так, в Соединенных Штатах, в стране, которая диктует основные направления исследований в области медиа и в которой, собственно, и возник термин СМИ (точнее – его англоязычный аналог), еще в 1960–1970 гг. отказались от его употребления (по этой причине отсутствуют определения СМИ в американских и европейских словарях). Там обращаются либо к термину «средства массовой коммуникации» (СМК), либо – к «массмедиа». К СМК они относят в равной мере и телевидение, и радио, и прессу, и Интернет, и кино, и звуко- и видеозаписывающую индустрию, и современные мультимедийные технологии. Данный факт говорит о том, что американские исследователи не прибегают к практике сопоставления понятий СМК и СМИ, они их не сводят и не разводят: просто, исходя из реалий и опираясь на развитие научной мысли, перестали употреблять одно из них – СМИ.
Германия позаимствовала американскую традицию, и поэтому ученые в этой стране обращаются к термину «средства массовой коммуникации». Во Франции же, как об этом свидетельствует С. В. Ануфриенко [Актуальные вопросы…, 2017. С. 9], ссылаясь на работы исследователя В. П. Терина, напротив, на начальном этапе, в 1950–1970-х гг., употребляли исключительно понятие «средства массовой информации». Это обстоятельство объяснялось политическим противоборством двух государств во время правления Ш. де Голля (1958– 1969), когда Франция беспрецедентно вышла из военной организации НАТО и стала проводить ярко выраженную антиамериканскую политику [Терин, 2000. С. 190–192]. Но начиная с 1970-х гг. и во Франции термин «СМК», успевший к тому времени окончательно утвердиться на европейском континенте, вошел в научный обиход.
Нетрудно догадаться, что советские исследователи исходя из геополитической конъектуры обратились к французскому опыту и стали использовать термин «средство массовой информации» как перевод французского термина moyens d'information de masse. Причем понятие «СМИ» употреблялось параллельно с термином «средства массовой информации и пропаганды». К понятию «СМК» прибегали крайне редко – только в тех случаях, когда необходимо было подвергнуть критике очередное западное медиаисследование. Впрочем, и в современной России, как и во многих постсоветских странах (в том числе и в Армении), термин «СМК» так и не смог утвердиться и вытеснить из научного и бытового оборота понятие «СМИ» (ведь даже на законодательном уровне закрепился термин «СМИ»). Возможно, это связано с тем, что термин «СМИ» стал своеобразным наследием советской эпохи, который настолько прочно вжился в систему и в сознание, что отказ от него кажется невозможным. Он стал знаком, обозначающим широкое поле деятельности, не ограниченное средствами, массовостью и информацией [Там же. C. 188]. Да и, кроме того, как совершенно справедливо отмечает В. П. Терин, в самом термине «СМИ» изначально заложена вертикальная однонаправленность идейно-психологического воздействия, которая была присуща партийной парадигме советских СМИ и которая, добавим от себя, продолжает оставаться характерной для многих современных постсоветских медиа, но отнюдь не присуща массмедиа имманентно 9.
Видимо, данными причинами объясняется также и то, почему понятие «СМИ» в нашем сознании ассоциируется с определением более масштабного объекта действительности, чем коммуникационные каналы.
В продолжение темы о понятии «СМИ» отметим, что равноценным его синонимом часто считают термин massmedia или media. Однако в этом случае необходимо немного расширить объем данного понятия. Ведь тогда к СМИ, помимо традиционных каналов – TВ, радио и прессы, следует отнести и Интернет, и кино, и звукозаписывающую индустрию, и кабельные сети. Однако если, например, Интернет мы считаем СМИ, как же быть с теми юридическими нормами, в которых четко оговаривается принцип периодичности и обозначается: к СМИ относятся «периодические печатные издания, радио-, теле-, видеопрограммы, кино-хроникальные программы и иные формы периодического распространения массовой информации»? Вот здесь и возникает потребность во введении (с учетом также активного развития современных информационно-коммуникационных технологий) другого термина – средства массовой коммуникации (СМК). И вновь обратимся к определениям СМК, данным в следующих словарях: Большой толковый социологический словарь 10, Человек и общество: Культурология. Словарь-справочник 11, Учебный словарь терминов рекламы и паблик ри-лейшенз 12. Рассмотрев данные определения, нетрудно заметить, что вновь наблюдается некоторая понятийная разноголосица. СМК – это и совокупность коммуникационных каналов, и комплекс институтов, и система учреждений. Но объединяет данные определения (к чему, кстати, предрасполагает и этимология слова «коммуникация», восходящего к латинскому cîmmunicatio – беседа, сообщение, приглашение к разговору) тот факт, что во всех речь идет о применении каналов информации, прежде всего, в целях установления коммуникации между сторонами информационного процесса (а не об одностороннем процессе распространении сообщений, характерном для явления СМИ). Данным обстоятельством и объясняется, почему понятия СМК и СМИ не могут являться синонимичными и взаимозаменяемыми. Схожи содержания этих двух терминов присутствием в обоих слов «средства» и «массовая» – и только на этом уровне и в этом аспекте их качества и характеристики могут совпасть. На это могут возразить, отметив, что различны они и своими «средствами». Аргументация следующая: в систему СМИ и СМК входят различные каналы передачи информации. Применительно к прессе, радио и телевидению они используют определение «СМИ», а добавив к этой группе Интернет, информагентства, кинематографию, звукозаписывающую индустрию и т. д., – СМК 13. Бывает и наоборот, когда вне системы СМК оставляют журналы, книги, кино, объясняя тем, что аудитория данных каналов информации более узкая. В частности, эту точку зрения разделяет исследователь Л. Федотова, считающая, что важной характеристикой понятия СМК является их возможность быть «максимально доступными неограниченному количеству людей» [2003. С. 32]. А разве журналы и книги сегодня имеют определенные ограничения в доступе (оставляя за скобками ограничения по идеологическим убеждениям)? Вовсе нет.
Другой вопрос, что к ним реже обращаются в силу того, что они требуют культуры чтения – определенного уровня знаний и грамотности, для усвоения подобного рода материалов необходимо потратить чуть больше времени и усилий. Правда, под «доступностью» может подразумеваться и «понятность».
Между тем представители одного из направлений лингвистических методов исследования медиатекстов – метода дискурс-анализа – говорят, что их конечная цель – в том, чтобы выявить и описать связи между языком, властью и идеологией, обычно скрытые от массовой аудитории [Современный медиатекст, 2011. С. 40]. Но если они действительно скрыты, то всегда ли, исключив их, можно надеяться на понимание смыслов до некоего приемлемого уровня?
Думается, контенты литературы и медиатекстов могут быть сопоставимы по сложности, но эта сложность разного порядка. Дело в том, что, как мы убеждаемся все более и более, в связи с потребителями СМИ можно поставить и такую проблему: адекватно ли воспринимается весь контент СМИ их аудиторией? Если восприятие в толковании медиатекстов всегда адекватно, почему же в таком случае такое массовое хождение имеют неопознанные фейки и дезинформация разного рода (сознательное создание и распространение фейков – совершенно другой вопрос)? И почему, заходя с другой стороны, правомерно именно сегодня ставить вопрос о медиаграмотности? Кроме того, информационные процессы сегодня настолько усложнились и интенсифицировались, что появилась необходимость в специалистах – медиаспециалистах, которые объяснят и прокомментируют произошедшие медиасобытия.
Если логически развить ощутимую не только у нас тенденцию, она, по всей вероятности, приведет к моменту, когда будет ощущаться необходимость перестроить герменевтику на новый лад – правила толкования для медиатекста. Так, довольно часто раздающийся призыв специалистов медиа «уточните, каков источник информации» – разве не то же самое, что знаменитая «критика источников», фундаментальный классический принцип герменевтики?
Не уходя в эту сторону проблемы, зафиксируем все же, что «максимальная доступность / недоступность» – не слишком простое качество и уж во всяком случае малооперациональное, чтобы использовать его как дифференциальный признаков этих понятий.
Как мы видим, автор, оперируя в своих рассуждениях словом «массовая», фигурирующим в термине «СМК», совершает логическую ошибку (возможно, сознательную – и тогда это не ошибка, а уловка), подменив понятие «аудитория» на понятие «доступность информации». И еще один факт, который не уточняет исследователь: каким же должен быть потенциальный размер аудитории, чтобы определить, что к этому каналу информации обращаются чаще, чем к другому?
По нашему мнению, на сегодняшний день ставить вопрос о включении в систему СМК и СМИ различных каналов передачи информации не совсем верно, поскольку любой канал информации также обладает и механизмом коммуникации. Поэтому применительно и к СМИ, и к СМК приходится говорить о практически идентичных каналах распространения информации. Добавим и то, что каждый канал информации, помимо того, что обладает механизмом коммуникации, но и благодаря развитию мультимедийности, может быть представлен обособленно и иметь отдельную аудиторию. При этом взаимная интегрированность медиаре- сурсов приводит к «скрещиванию» аудиторий, с одной стороны, и размытости ее границ, с другой.
Авторы из современной «Гуманитарной энциклопедии: Концепты. ..», по нашему мнению, несколько облегчили свою задачу: они определяют отношения не между СМК и СМИ, а между СМИ и массовой коммуникацией. В этом случае, конечно, их перепутать сложно. Итак, массовую коммуникацию они определяют как «...один из видов социальной коммуникации (наряду с интраперсональной, интерперсональной и групповой), который подразумевает распространение информации на массовую аудиторию в широком пространственно-временном диапазоне. В отличие от других видов социальной коммуникации массовая коммуникация осуществляется не на уровне отдельных индивидуумов, организаций и сообществ, а на уровне общества в целом» 14. Давая такое определение, они устанавливают и адекватные отношения между понятиями «СМК» и «СМИ», при этом одним из коммуникаторов являются СМИ – «это особые социальные институты, собирательно именуемые средствами массовой информации (масс-медиа), персонал которых специализируется на поиске, сборе, создании, переработке и распространении информации» 15, а вторым – социум в целом. Понятно, что в этом случае смешивать СМК со СМИ – все равно, что путать процесс коммуникации с одним из коммуникантов.
Однако сходство «средств» не делает их равноценными понятиями. Кажется вполне рациональным утверждение, что главное различие между СМИ и СМК мотивировано понятиями «информация» и «коммуникация». Однако взять это суждение как рабочий инструмент довольно трудно: очень много разных мнений, споров, определений, даже концепций. Но, что характерно, особого прогресса в обсуждениях не заметно даже при отсутствии разногласий.
Так, возьмем для примера дискуссию (она так именуется, но подлинных противоречий между ее участниками мы не заметили) между французским ученым-гуманитарием и двумя российскими журналистами. Один из участников, основатель и руководитель французского Института наук о коммуникациях Доминик Вольтон выступает, казалось бы, с провокационным тезисом: «Чем больше циркулирует информации – а сейчас у нас гораздо больше технических возможностей для производства и потребления информации: есть видео, есть компьютеры и т. д., – тем меньше коммуникации , тем меньше общения существует» 16.
Но, несмотря на провокационность, этот тезис никем из участников по-настоящему не оспаривается.
В ходе своего выступления Вольтон дает определение также информации и коммуникации в их взаимоотношениях: «Информация – это, конечно, гораздо проще, чем коммуникация. Информация – это просто передача (так у авторов. – Н. А. , М. А. , М. Т. ), а коммуникация – это взаимоотношения, и для взаимоотношений необходимы как минимум два человека, которые понимают друг друга» 17.
Юрий Сапрыкин, шеф-редактор объединенной компании «Рамблер-Афиша», выступает с даже более радикальным тезисом: еще недавно существовала такая, по его словам, «цифровая утопия», т. е. «представление о том, что свободное распространение информации быстро решит все человеческие, социальные, коммуникационные проблемы, и мы заживем в такой идиллической глобальной информационной деревне, но она уже не оправдывается. Пока решаются одни проблемы, дополнительно создаются другие» 18.
Думается, с полным основанием можно утверждать, что сущность коммуникации – взаимопонимание – не такой простой предмет, чтобы надеяться на скорейшее его определение. Но без него не стоит ждать прогресса в этих обсуждениях. Для нашей темы чрезвычайно важно, что мы упираемся в проблему понимания уже второй раз: первый случай – при нашей попытке разобраться в термине «доступность».
Понятие информации немыслимо вне ее категорий – источник, передающая среда и получатель. При такой интерпретации отношения между коммуникатором и аудиторией носят исключительно однонаправленный характер и не предполагают механизма обратной связи. При «коммуникации» же информационный процесс удваивается, поскольку включает также све́дения от реципиента, содержащие информацию, как аудитория воспринимает и реагирует на поведение коммуникатора. Структура коммуникативного процесса традиционно включает пять элементов: коммуникатор – сообщение (код – при незнании кода коммуникация не состоится) – канал – аудитория (реципиент) – обратная связь. Иначе говоря, без установления диалога (вне зависимости от того, какой характер он принимает) процесс коммуникации невозможен. При этом очевидно, что два этих понятия – «диалог» и «коммуникация» – являются комплементарными, и без них немыслим процесс обмена сведениями в обществе.
Правда, уже процитированные авторы издания «Гуманитарная энциклопедия: Концепты» с нами не согласились бы. По их мнению, «процесс массовой коммуникации носит однонаправленный и внеличностный характер, поскольку институционально организованный отправитель удален от своего потенциального адресата; при этом необходимая для эффективной коммуникации обратная связь обеспечивается посредством дополнительных специальных исследовательских организаций» 19.
Но, как мы уже говорили, именно термин «СМК», по сравнению со «СМИ», наиболее полно и точно описывает сегодняшнее состояние медиасистемы с учетом актуальных тенденций и процессов на информационно-коммуникационном рынке. Термин «СМИ», как мы могли в этом убедиться, предполагает (или, во всяком случае, предполагал ранее) односторонний механизм информирования общественности. Но современной медиасистеме несвойственны субъектно-объектные взаимоотношения – парадигма сменилась, и это носит принципиальный и, надеемся, необратимый характер: сегодня мы говорим о субъектно-субъектной природе новостей (как отмечает профессор С. С. Ерицян, сегодня мы имеем дело с прецедентом инверсии коммуникативных ролей в отношении «аудитории» и «автора». Именно «влияние» адресата приводит к тому, что современные медиатексты лишаются «авторства», своих индивидуальных и личностных черт [Ерицян, Тадевосян, 2019]), исходя из предпочтений, интересов, вкусов (другой вопрос, что не все читатели или пользователи об этом осведомлены или способны на это). Таким образом, думается, мы доказали, что это – инерция словоупотребления, отвечающего прежнему положению вещей, а не сущность явления.
Намного легче обстоят дела с термином «информационные потоки» (ИП): в отличие от вышерассмотренных понятий, в литературе относительно него не так много расхождений в определениях. Ряд авторов (Г. В. Лазутина [2001. С. 56], Е. В. Черникова [2012. С. 49–50], Paul Reilly и Dima Atanasova 20) сходятся во мнении, что «информационные потоки» – это сами тексты, сами продукты, т. е. содержание, наполнение коммуникационных каналов. Относится ли журналистика в таком случае к так называемым коммуникационным каналам? Однозначно да. Но только ли в рамках такого вида деятельности, как журналистика, создаются тексты ИП? Конечно, нет, поскольку к их созданию также причастны и другие виды творчества: художественная литература, искусство; пропаганда во всех ее разновидностях – научная популяризация, проповедничество, политическая, эстетическая пропаганда; административно-управленческая деятельность, реклама, справочно-информационная деятельность; эпистолярное творчество; игротехника. Однако журналистику, в отличие данных видов деятельности, направленных на создание конкретного типа текста, можно охарактеризовать и как сферу, ориентированную на производство массовых информационных потоков. Собирая и сосредотачивая в своих пределах социально значимые тексты массовой информации, журналисты создают из отдельных материалов номеров газет и журналов, теле- и радиопрограмм многочисленные «притоки», которые пополняют информационные потоки, привнося периодически в них новые порции массовой информации.
Помимо этого, журналистика по отношению к ИП реализует комплекс и иных задач. Так, выполняя одну из своих главных функций – информационно-коммуникационную, журналистика, по мнению исследователя, инициирует в обществе духовное сотрудничество во благо создания массовых информационных потоков, которые тем самым способствуют бесперебойному функционированию механизмов общественной саморегуляции. Каков этот функционал? Он состоит из следующих элементов: создание и поддержание контактов и с представителями разных сфер деятельности, которые производят массовую информацию, и с властными структурами, и бизнес-сообществом, т. е. со всеми, кто может выступать в роли «поставщика» или «держателя» новостей, кто может оповестить о тех или иных событиях, прокомментировать соответствующие сообщения, рассказать о предстоящих ивентах и т. д. Сюда также можно включить и проведение пресс-конференций, брифингов, различных массовых акций (например, сбор средств для пострадавших в Беслане семей и т. п.), а также акций по поддержанию обратной связи с читателями (прямая линия, горячая линия, соцопро-сы). Другими словами, журналистика, становясь центром сборки единого медиапродукта, в определенной степени моделирует информационные потоки, которые несут в себе развивающуюся, многомерную информационную картину современности. Некоторые исследователи, в частности Г. В. Лазутина [2001. С. 56] и Е. В. Черникова [2012. С. 49–50], считают, что именно эта актуальная информационная картина мира опосредует воспроизведение в обществе массового сознания, способствует созданию общественного настроения, во многом предопределяющего поведение членов общества и социальных институтов. Отчасти авторы правы, но лишь отчасти, поскольку полностью согласиться с этой точкой зрения невозможно, тем более сегодня. В эпоху активного развития блогосферы, видеоблогерства, когда даже известные журналисты покидают свои посты с площадок официальных СМИ и осваивают платформу YouTube, когда блогер, публикуя свой пост в Instagram, набирает до одного миллиона и более просмотров (больше, чем подписчики или зрители тех или иных газет и телеканалов), говорить о том, что формируемая журналистикой картина дня «опосредует воспроизведение в обществе массового сознания», не совсем верно 21. Ведь сегодня весьма часто журналисты обращаются к этим самым постам, и даже к тем из них, которые содержат в себе явный фейк; а не транслировать их они не смогут, поскольку в противном случае отстанут от общей медийной повестки дня, – и кто же тогда моделирует МИП?
Таким образом, тезисно разобравшись с определениями таких понятий, как «журналистика», «СМИ», «СМК» и «ИП», перейдем к вопросу об установлении соотношения между ними. «Журналистику», опираясь на прохоровскую концепцию, мы определяем «как социаль- ный институт, систему видов деятельности, совокупность профессий, систему произведений, комплекс каналов передачи информации массовой аудитории», т. е. рассматриваем через концепт «деятельность». В этом случае СМИ, а соответственно, и СМК можно рассматривать как средство реализации и осуществления журналисткой деятельности. Понятие «журналистика» – самое обширное также потому, что относится к той категории коммуникационных каналов, в рамках которых могут создаваться продукты информационных потоков. Исходя из данных нами определений понятиям «журналистика», «СМИ», «СМК», «ИП», можно убедиться, что как объемы, так и содержание рассмотренных медиапонятий не совпадают. Их нельзя считать равноценными, синонимичными и взаимозаменяемыми. Относить их к категории «взаимозависящих» – да, и только в таком соотношении, на наш взгляд, возможно их изучение.
Received
28.03.2021
Список литературы К вопросу об уточнении некоторых медиапонятий
- Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций: Коллективная монография / С. В. Ануфриенко, А. В. Атанесян, А. С. Тер-Арутюнян, А. К. Боташева, Н. А. Мелконян, О. Ф. Волочаева, Г. Б. Овчарова, А. Е. Мкртичян, И. А. Румачик, Л. К. Саадян, Н. Н. Мартиросян; под общ. ред. А. В. Атанесяна, И. А. Румачик. Ереван: Изд-во Ереван. гос. ун-та, 2017. 214 с.
- Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики: учебник и практикум для академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 358 с.
- Беляков А. В., Матвейчев О. А., Гальперина А. С. Большая актуальная политическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2009. 424 с.
- Ерицян С. С., Тадевосян М. Р. Применение лингвопрагматических методов в исследовании медиатекста // Учен. зап. НовГУ им. Я. Мудрого. Новгород, 2019. С. 1-4.
- Кирий И. В., Новиков А. А. История и теория медиа: Учебник для вузов. М.: ИД Высшей школы экономики, 2017. 423 с. (Учебники Высшей школы экономики)
- Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов М. : Аспект Пресс, 2001. 240 с.
- Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество: введение в теорию и исследования. М.: Либроком, 2010. 360 с.
- Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник. М: Аспект Пресс, 2009. 351 c. Политический словарь / Гл. ред. В. В Федоров. М.: Изд-во «Центр социального прогнозирования и маркетинга», 2006. 406 с.
- Современный медиатекст: Учеб. пособие / Отв. ред. Н. А. Кузьмина. Омск, 2011. 414 с.
- Стефанов С. И. Реклама и полиграфия: Опыт словаря-справочника. М.: Гелла-принт, 2004. 300 с.
- Терин В. П. Массовая коммуникация: исследование опыта Запада. М.: МГИМО МИД РФ, 2000. 224 с.
- Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. М.: Питер, 2003. 400 c. Чевозерова Г. В. Основы теории журналистики: Учеб. пособие: В 2 ч. 2-е изд., стереотип.
- Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. Ч. 1. Метажурналистика. 136 с.
- Черникова Е. А. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Школа издательского и медиа бизнеса, 2012. 414 с.
- Craig R. Communication Theory as a Field. Communication Theory, 1999, May, vol. 9, p. 119161.
- Zelizer B. Definitions of Journalism. In: Overholser G., Jamieson K. H. (eds.). Institutions of American Democracy: The Press. New York, Oxford University Press, 2005, 80 p.