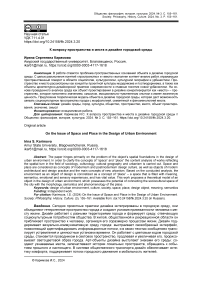К вопросу пространства и места в дизайне городской среды
Автор: Каримова И.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В работе ставится проблема пространственных оснований объекта в дизайне городской среды. С целью разъяснения понятий «пространство» и «место» выполнен контент-анализ работ, отражающих пространственный поворот в области социологии, культурологии, культурной географии и урбанистики. Пространство и место рассмотрены как концепты проектной культуры модернизма и постмодернизма, а также как объекты архитектурно-дизайнерской практики современности и главные понятия новой урбанистики. На основе проведенного анализа среда как объект проектирования в дизайне конкретизируется как «место» - пространство, которое наполнено значением, смыслом, эмоционально-чувственным опытом и имеет жизненную ценность. Предложена теоретическая модель объекта в дизайне городской среды, которая даст возможность связать социокультурное пространство города с морфологией, семантикой и феноменологией места.
Дизайн среды, город, культура, общество, пространство, место, объект проектирования, значение, смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/149145350
IDR: 149145350 | УДК: 711.4.01 | DOI: 10.24158/fik.2024.3.20
Текст научной статьи К вопросу пространства и места в дизайне городской среды
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия, ,
Город и городская среда, определяемая такими понятиями, как пространство и место с присущими им атрибутами освоенности, значениями, смыслами и территориальной идентичностью, входит в сферу исследований социологии, культурологии, культурной географии, урбанистики, архитектуры и дизайна. В настоящем исследовании рассматривается проблема пространственных оснований дизайна городской среды с целью подтверждения теоретической модели объекта проектирования.
Пространственные основания дизайна городской среды . Пространственный поворот (spatial turn) трансформировал ракурс изучения жизненной среды как базовой категории в культурной географии, истории, социологии, культурологии, а также стал предметом обсуждения в ряде искусств, например, в архитектуре и дизайне. Пространство, которое ранее рассматривалось «по некоторым негласным критериям как абсолютное, оптико-геометрическое, евклидово-декартово-ньютоново и бывшее физической конфигурацией территории», стало трактоваться как сематически наполненное и эмоционально-чувственно постигаемое (Лефевр, 2015: 9). Работы, отражающие привязанность и любовь человека к конкретному месту, предвосхищают пространственную направленность гуманитарных исследований.
В произведении философа и искусствоведа Г. Башляра «Поэтика пространства» мы находим феноменологическое описание мест, наполненное глубокими смысловыми коннотациями. В исследовании, которое автор называет «топоанализом», рассказывается о «счастливых местах», связанных с воспоминаниями о благополучии, спокойствии, гармонии и любви (Башляр, 2004). Речь идет о переживаемом пространстве, которое ощущается со всей пристрастностью, на какую способно воображение и которое концентрирует бытие внутри охраняемых границ1. Такое отношение к месту в пространстве Г. Башляр называет «топофилией». Поэтизации в его работе подлежат различные места, но главное занимает дом – место, куда хочется возвращаться. Оно становится ведущей категорией поэтики пространства и обретает смысловую наполненность жизни (Башляр, 2004: 26).
В научный оборот понятие топофилии было введено философом и основоположником гуманитарной географии И-Фу Туаном. Применяя нарративно-описательный подход, он рассматривал места в пространстве различных масштабов: дом, поселок, город, страна. И-Фу Туан говорил, что значение места формируется на основе рефлексии опыта обживаемого пространства, где знания, история, мифы, нарративы определяют отношение топофилии или топофобии (страха места) к нему (Tuan Yi-Fu, 1977). Чувство места и его дух выражаются посредством маркирования сакральных точек в пространстве, выдающихся личностей и значимых событий, которые провоцируют привязанность людей к месту или, наоборот, страх перед ним. Маркеры места в пространстве относятся к его атрибутам, но чувство места «принадлежит» людям (Кибасова, Галкова, 2020). Благодаря работам И-Фу Туана в сферу научных исследований географического пространства вошло его человеческое измерение, различение пространства и места как чувственного опыта: как объекта любви или страха и ненависти. Место – это пространство, которое мы знаем, имеющее для нас жизненную ценность. «То, что начинается как недифференцированное пространство, становится местом по мере того, как мы узнаем его лучше и придаем ему ценность» (Лавренова, 2023: 60).
М. Фуко в статье «Другие пространства» констатирует, что мы живем не в гомогенном и пустом мире, а в «пространствах души», заряженных качествами, – в пространстве изначального восприятия, грез, страстей (Фуко, 2006). В своем исследовании ученый уделяет особое внимание анализу «внешнего пространства» и возможным местоположениям: утопиям и гетеротопиям. Утопия – это место-мечта, местоположение без реального места, несбыточные пространства. Также в любой культуре присутствуют подлинные места, вписанные в конкретные общественные институты, но служащие своего рода «контрместоположениями» – гетеротопиями (Фуко, 2006: 195). Это места внутри пространства, которые имеют смыслы, значения и практики, иные по отношению к включающему их пространству. В городской среде к гетеротопиям относятся территории, которые трансформируют существующий контекст и погружают в другие сюжеты и практики (примером может служить территория сквера: днем она служит для прогулок родителей с детьми и отдыха пенсионеров, вечером – для встреч подростков, в выходные – для праздничных мероприятий и пр.). Причем заряжены эти места могут быть как позитивными, так и негативными смысловыми коннотациями.
А. Лефевр в работе «Производство пространства» говорит о том, что человек всегда размечает свое пространство, расставляет вехи, метки, оставляет символические и в то же время практические следы (Лефевр, 2015). Он постоянно обозначает в нем перемены направления, повороты применительно к собственному телу, рассматривая его как центр. На протяжении тысячелетий такие составляющие субъективного опыта человека, как восприятие, осмысление и переживание; репрезентация пространства и пространство репрезентации; особые пространства каждого из чувств; жесты и символы, сходились воедино и обеспечивали производство социального пространства (Лефевр, 2015: 169). А. Лефевр формулирует соответствующую триаду. Первое пространство – «воспринимаемое», оно опосредовано физическими свойствами и качествами объектов, пространственными связями и практиками на основе чувственного опыта людей. Второе пространство – «понимаемое» (ментальное), оно репрезентирует социокультурные ценности, идеологии и принципы организации в вербальных и образных концептах. Третье пространство – «проживаемое», феноменологическая реальность репрезентаций образов, смыслов, значений, которые люди связывают с пространством. Триада отражает освоенное сообществом место, где реализуются социокультурные практики, которое осмысливается как концепт жизни, наполняется значением и смыслом.
Э. Сойя обращается к городу как к месту в географическом пространстве, которое является началом организации социальной жизни (Сойя, 2008). В исследовании «Как писать о городе с точки зрения пространства» он возвращает в научный оборот аристотелевское понятие синой-кизма1. Обращаясь к нему как к активному социальному и пространственному процессу, связанному с образованием политической и культурной конфедерации вокруг особого территориального центра – полиса или метрополиса, Э. Сойя дополняет его более выраженной пространственной интерпретацией: «Синойкизм означает творчество, новшества, территориальную идентичность, политическое и социальное развитие, которое возникает из совместной жизни в более плотных гетерогенных городских областях» (Сойя, 2008: 131). Именно для городов характерна плотность и гетерогенность культурной жизни, так как они привлекают чужаков, гостей, мигрантов, которые несут инновационные идеи. Города концентрируют потребности людей и в то же время создают стимулы для решения проблем по-новому. Э. Сойя заключает, что общество, все формы социальной жизни и социальных отношений возникают, развиваются и меняются в материально реальном и социальном воображаемом контексте городов.
Пространственным репрезентациям последних в эпоху постмодерна посвящена работа З. Баумана «Текучая современность» (Бауман, 2008). Классифицируя места в пространстве города, ученый определят их как «значимые», «пожирающие» и «неместа» (Бауман, 2008: 112–113). К первым из названных им относятся территории городской среды, которые создают чувство привязанности и обладают ценностными смыслами. «Пожирающие» места – это отчужденные и несоразмерные общественные пространства, подавляющие человека, а также «храмы потребления» (торговые комплексы). Комментируя организацию пространства Большой арки Дефанс в Париже, З. Бауман говорит, что его единственное предназначение состоит в том, чтобы люди прошли сквозь него и покинули как можно скорее. «Неместом» называется им пространство, лишенное символических выражений идентичности, отношений и истории, к которым относятся аэропорты, гостиничные номера, общественный транспорт, автострады. З. Бауман отмечает, что никогда в развитии общества «не-места» не занимали так много пространства, как в современности. В городе есть и «пустые пространства» – это места, которым не приписаны никакие значения, например, неиспользуемые или незамечаемые территории города. Тем не менее они являются необходимыми компонентами картографирования, а также одной из форм представления ментальных образов города.
В отечественных исследованиях проблемное поле географического и культурного пространства города представлено работами в области культурного ландшафта, геокультурного брендинга, разработкой вопроса трансформации типов городских пространств. Так, Д.Н. Замятин обосновывает теорию и практику геокультурного брендинга городов и территорий с целью конструирования и продвижения географических образов территорий, а также управления ими (Замятин, 2020). Город, регион, страна рассматриваются на основе нового методологического подхода, который строится на понятии геокультуры, представляющей собой процесс и результат развития географических образов в конкретной культуре, а также «накопление», формирование традиций осмысления этих образов (Замятин, 2020: 651). Посредством понятия «географический образ» решается бинарная оппозиция «место – пространство», причем понятие места связывается с территориальной определенностью, освоенностью, четким масштабированием, тогда как концепт пространства отражает территориальную неопределенность, отсутствие четких границ, не- или малоосвоенность. Географический образ представлен в системе знаков, символов, стереотипов, архетипов, мифов, характеризующих определенную территорию (место, ландшафт, регион, страну).
Междисциплинарное исследование в области семантики культурного ландшафта О.А. Лавре-новой показывает, что смыслы географического пространства, созданные культурой, структурируют пространство жизни, превращая представление о среде в знаковую систему. Культурный ландшафт (в том числе и города) – это система матриц и кодов культуры, выражающихся в знаках и символах, непосредственно связанных с территорией (Лавренова, 2010). Иерархия уровней культурного ландшафта от физико-географического пространства до пространственных эйдосов культуры позволяет изучать семантику в разных плоскостях – категорий культуры, метафор, образов, знаков.
Н.А. Лебедева и И.И. Митин говорят о проблеме стирания различий между «реальным» и «воображаемым» пространством современного города и, как следствие, о возникновении новых типов городских пространств – экзополисов (Лебедева, Митин, 2019). Экзополис – это форма города или локальных городских пространств, создаваемых на новой территории или в процессе джентрификации1, в которых воспроизводится высокотехнологичная и комфортная среда на основе высоких стандартов потребления (Лебедева, Митин, 2019: 206). Однако отсутствие истории такого пространства не обеспечивает возникновения чувства укорененности и принадлежности людей к месту и оснований для отождествления с ним. Подобные формы пространства демонстрируют трансформацию содержания того, что мы называем урбанизацией и урбанизированными пространствами и местами.
Пространство города как объект дизайна среды . В проектной практике архитектуры и дизайна городская среда осмысливается на концептуальном уровне. Стратегии проектной культуры модернизма и постмодернизма оперируют принципиально различными образами пространства (Азизян и др., 2002). В первом случае это первоэлемент, обладающий трансцедентальной сущностью. Мастера архитектуры модернизма воспроизводят умозрительную концепцию пространства, полагая процесс жизни общества в системе рациональных и упорядоченных действий. Пан-геомет-рический архитектурный дискурс Ле Корбюзье «превращается в моральные рассуждения о правильном, о прямом угле и прямизне вообще, в иносказательный призыв к естественности (воде, воздуху, солнцу) в сочетании с самой жестокой абстракцией (геометрией, модульностью)» (Лефевр, 2015: 276). Однородность, которая объясняется технологией, управлением, унификацией в итоге создает не единство, а «изоляты», которые дробятся на части, что ведет к появлению маргинальных территорий и псевдоансамблей, которые не связаны ни с центром, ни с окрестностями. Пространство модернистского города отличает гомогенность, фрагментация, иерархичность. Такая рациональная логика пространства скрывает «реальные» отношения и конфликты. Агрессивная, обезличенная среда порождает такое же общество, в то время как «пространство города должно стать стимулирующей средой с позитивными ценностями, преобразованными в прочувствованный опыт, местом, которое заключает в себе миллион разных жизней» (Дайкхофф, 2023: 100).
В проектной культуре постмодернизма прообразом пространства выступают хаос, неопределенность, нестабильность. В такого рода концепциях нет места окончательным и безусловным закономерностям. Обретение равновесия и порядка возможно в критической точке, где происходит переход на новый уровень пространственной организации или завершение ее цикла. Отсюда берут начало такие приемы работы с пространством, как деконструкция, сдвиг, излом, сложные конфигурации, коллаж форм, заявленные в творчестве мастеров архитектуры постмодернизма (Добрицына, 2004). Большую роль в создании нелинейных пространств в архитектуре и дизайне играют возможности компьютерного моделирования и визуализации. Цифровые пространства проектной культуры постмодернизма являются продуктом этих технологий. Теперь здания могут принимать любую форму и цвет, и необязательно сопрягать стены, крыши и пол под прямым углом. Критик архитектуры и урбанизма Т. Дайкхофф говорит, что если подобная вычурность была исключением, то теперь она стала нормой и такие сооружения называют знаковыми (Дайк-хофф, 2023). Эти зрелищные конструкции посещаются множеством людей в ожидании чего-то необычного, и, покидая их, они думают, что будут видеть мир иначе. Современные большие города производят пространство зрелищ, но не пространство освоенных мест, которое жители обходят как пассивные туристы, страдающие от вечной нехватки впечатлений. Это город, который большинство посещают, но не населяют, не говоря уже о том, чтобы им владеть. «Это нечто, что подлежит потреблению, – продукция, брендшафт, нечто, поданное нам как пассивным получателям – то, что мы не можем контролировать» (Дайкхофф, 2023: 342). Т. Дайкхофф заключает, что вместо того чтобы стимулировать или предугадывать желания жителей города, проектировщикам следует включить их разговор о пространстве города (Дайкхофф, 2023).
Д. Харви в работе «Право на город» задается вопросом о том, какой город нам необходим (Харви, 2019). Он полагает, что в его среде следует учесть желанные социальные связи, отношения с природой, образ жизни, технологии и культурные ценности. Право на город означает право менять себя, изменяя город. Эта трансформация зависит от приложения коллективных усилий. Д. Харви заключает, что свобода создавать и переделывать наши города и самих себя относится к одному из самых ценных и тем не менее наиболее пренебрегаемых прав (Харви,
2019: 7). Лишение жителей права на город провоцирует радикальные методы его освоения1. Созидательные мысли о пространстве города в стремлении к производству и воспроизведению его ландшафтов, созданию в городе маленьких утопий соседствуют с призывом к силе, критике и разрушению, намерением высвободить другие нарративы о городе, погребенные под зрелищем, для того чтобы обеспечить демократические социальные перемены и преобразить жизнь.
Образ пространства городской среды как проекция эмоционально-чувственного опыта и ощущений человека, значений и смыслов трудно поддается концептуальным схемам проектирования. В работе «Смерть и жизнь больших американских городов» Дж. Джекобс, основоположник нового урбанизма, указывает на важнейшие принципы понимания больших городов: 1) думать в категории процессов; 2) рассуждать индуктивно, идя от частного к общему, а не наоборот; 3) искать «неусред-ненные» ключи к решению, связанные с весьма малыми величинами, но проливающие свет на то, как функционируют более крупные и более «усредненные» величины (Джекобс, 2011: 448–449).
Жизнь места в пространстве городской среды, которое замыслил архитектор или дизайнер, начинается после воплощения проекта. Новое место начинает моделироваться сообществом: производить события и конкретизировать границы. В процессе его освоения формируется чувство привязанности, территориальной идентичности или, напротив, отторжения. Сегодня расширение социокультурных практик города происходит посредством новых медиа (Урбанизм и урбанисты в российских сетевых изданиях 2010-х годов …, 2020). Это реальность особого рода, не имеющая физической данности топоса/места, она не объектна, не тактильна, лишена сенсорики (ощущения запахов, движения воздуха). Пространство web-сетей и мессенджеров исключает физическое перемещение, здесь движется поток дискретных сообщений и образов сконструированных локаций. Но виртуальность сетей не может отменить понятие места как потребности в осязаемом и чувственно воспринимаемом опыте освоения пространства города, поскольку последнее непосредственно связано с человеческим телом как отправной точкой его измерения и познания. Сегодня для проектной практики дизайна «трудно представить более подходящее время для развития критического городского пространственного сознания, так как – больше, чем когда-либо прежде – мы все сегодня урбанисты» (Сойя, 2008: 140).
Модель дизайна среды города . Город – это социокультурное пространство, которое представлено практиками, системой культурных ценностей и знаний, знаками и символами проживающего здесь сообщества. Для дизайна пространственные основания указывают на понятие среды не только как на освоенное окружение, но и как на место в пространстве. Изначально недифференцированное пространство становится местом, когда ему придают ценность, значение и смысл. Именно в категории места можно анализировать спектр его характеристик от «пустых пространств» до «значимых мест», наполненных чувствами топофилии или топофобии.
Объект проектирования в дизайне среды города указывает на территории различного масштаба. Если архитектура работает над стратегической организацией производства пространства города (определяет его каркас, распределяет масштабы социокультурной организации жизни, создает архитектурное пространство жизни), то дизайн максимально приближает пространство города к человеку посредством физического, эмоционально-чувственного, символического обживания места. В связи с этим требуются не только морфологические интерпретации объекта проектирования в дизайне среды, но и семиотические и феноменологические описания его как места в пространстве.
Целью дизайна городской среды является разработка объекта, который не вступает в противоречие с социокультурным пространством города. В качестве исходной теоретической модели проектирования мы предлагаем совместить триаду пространства А. Лефевра и принципы задания формы в дизайне среды как места в пространстве. Такая теоретическая модель объекта в дизайне городской среды, на наш взгляд, даст возможность связать социокультурное пространство города с морфологией, семантикой и феноменологией места (рис. 1).
Морфология места включает: 1) продукционный комплекс (функциональные, технологические, конструктивные, эргономические, экономические характеристики места); 2) социально-функциональный комплекс (социальная задача и заказ, эстетические потребности места); 3) объемнопространственная структура (геометрические, цветовые, фактурные характеристики места).
Семантика места обусловливается: 1) мифологическим знанием (знаки, символы, стереотипы, архетипы, мифы, характеризующие места); 2) логическим знанием (символика морфологии места, социально-культурная символика места, художественно-образное значение места).
Феноменология места предполагает: 1) субъективное физиологическое ощущение места (преграда или открытость, тепло или холод, звук, свет, цвет) 2) субъективное эмоционально-чувственное переживание места (уют и защищенность, спокойствие или суетность, радость или беспокойство и пр.).
|
Пространство |
||||||
|
Воспринимаемое пространство |
Понимаемое пространство |
Проживаемое пространство |
||||
|
Опосредовано физическими свойствами и качествами объектов, пространственными связями и практиками на основе чувственного опыта людей |
Репрезентирует социокультурные ценности, идеологии, принципы организации в вербальных и образных концептах пространства |
Феноменологическая реальность репрезентаций образов, смыслов, значений, которые люди связывают с пространством |
||||
|
Место в дизайне городской среды |
||||||
|
Мо |
рфология места |
Семантика места |
Феноменология места |
|||
|
>3 X У о ф о С |
2 | 8 11 i di ° -6- |
6 ф 5 1 “ Ё й sg О Б “ О с |
8 h о ^ -8 3 5 |
ф 3 X СО X ф О О Ф У 3 о |
.5 ill У- |
Иц Ф ° н ¥ ^ 5- Ф *§, О £& о § т = |
Рисунок 1 – Теоретическая модель места в дизайне городской среды
Figure 1 – Theoretical Model of Place in Urban Environmental Design
Заключение . Таким образом, можно резюмировать, что среда города представлена сплетением различных мест в пространстве – «значимых», «немест», «пустых пространств» и прочих, что составляет суть ее пространственной протяженности и указывает на характер освоенности. Уровни связности мест городской среды могут образовывать центры притяжения или, напротив, быть ослабленными, уходя на периферию. Говоря о городской среде, мы понимаем ее как гетерогенное пространство, которое познается в процессе движения посредством различных способов мобильности (транспорт, пешая прогулка, web-серфинг медиа), что требует отдельного исследования.
Список литературы К вопросу пространства и места в дизайне городской среды
- Азизян И.А., Добрицына И.А., Лебедева Г.С. Теория композиции как поэтика архитектуры. М., 2002. 568 с.
- Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 240 с.
- Башляр Г. Избранное. Поэтика пространства. М., 2004. 376 с.
- Дайкхофф Т. Эпоха зрелищ. Приключения архитектуры и городов XXI века. М., 2023. 355 с.
- Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М., 2011. 460 с.
- Добрицына И.А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре. Архитектура в контексте современной философии и науки. М., 2004. 416 с.
- Замятин Д.Н. Геокультурный брендинг городов и территорий. СПб., 2020. 668 с.
- Кибасова Г.П., Галкова О.В. Ландшафт в пространстве и пространство ландшафта (англо-американская историография) // Философия и культура. 2020. № 11. С. 59–71. DOI 10.7256/2454-0757.2020.11.33506.
- Лавренова О. А. Любовь и место. Памяти И-Фу Туана. Географическая среда и живые системы. 2023. № 2. С. 58–67. https://doi.org/10.18384/2712-7621-2023-2-58-67.
- Лавренова О.А. Пространства и смыслы: семантика культурного ландшафта. М., 2010. 330 с.
- Лебедева Н. А., Митин И. И. От города к экзополису? Городской культурный ландшафт в гуманитарной и критической географии // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2019. № 1 (36). С. 197–220.
- Лефевр А. Производство пространства. М., 2015. 405 с.
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 525 с.
- Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? // Логос. 2008. № 3 (66). С. 130–140.
- Урбанизм и урбанисты в российских сетевых изданиях 2010-х годов / отв. ред. М.П. Абашева. Пермь, 2020. 172 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2006. 320 с.
- Харви Д. Право на город. Екатеринбург, 2019. 36 с. Loretta L., Slater T., Wyly E.K. Gentrification. N. Y., 2008. 310 р.
- Tuan Yi-Fu. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis, 1977. 235 p.