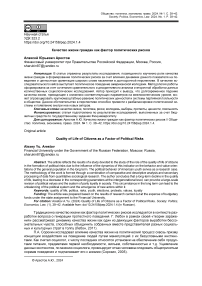Качество жизни граждан как фактор политических рисков
Автор: Арестов А.Ю.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье отражены результаты исследования, посвященного изучению роли качества жизни граждан в формировании политических рисков за счет влияния динамики данного показателя на поведение и ценностные ориентации широких слоев населения в долгосрочной перспективе. В качестве исследовательского кейса выступает политическое поведение американской молодежи. Методология работы сформирована за счет сочетания сравнительного и дескриптивного анализа и вторичной обработки данных количественных социологических исследований. Автор приходит к выводу, что долговременное падение качества жизни, приводящее к снижению соответствующих параметров на межпоколенческом уровне, может спровоцировать крупномасштабную ревизию политических ценностей и системы партийной лояльности в обществе. Данное обстоятельство в перспективе способно привести к разбалансировке политической системы и появлению внутри нее новых акторов.
Качество жизни, политика, риски, молодежь, выборы, протесты, ценности, лояльность
Короткий адрес: https://sciup.org/149144705
IDR: 149144705 | УДК: 323.2 | DOI: 10.24158/pep.2024.1.4
Текст научной статьи Качество жизни граждан как фактор политических рисков
Традиционно качество жизни как фактор политических рисков исследуется в контексте разработки вопроса о генерации протестного поведения. Г. Лебон в рамках своей «теории заражения» рассматривал динамику качества жизни как один из движущих факторов выработки бессознательных чувств, способных объединить собранных вместе представителей разных социальных и культурных страт в толпу (Лебон, 2011).
П.А. Сорокин исследовал влияние качества жизни на политический процесс сквозь призму концепции воздействия на поведение людей путем манипуляций с их безусловными инстинктами. Как считал социолог, к числу последних относятся установки на обеспечение себя продуктами питания, предметами первой необходимости, жильем, собственностью и т.д. Ущемление данных инстинктов, по мнению социолога, провоцирует отказ человека следовать общепринятым нормам поведения и подталкивает его к аномии (Сорокин, 2005).
Н. Смелзнер включил в структуру теории «прирастающей ценности» тезис о том, что к коллективным действиям участников протестов подталкивает именно дисфункция социальной системы, которая, помимо прочего, проявляется посредством длительного пребывания крупных социальных групп в условиях экономического неблагополучия (Смелзнер, 1998).
Э. Хоффер предполагал, что массовые протестные движения возникают в случае сочетания двух факторов – наличия привлекательного образа будущего, альтернативного существующей социально-политической парадигме, и широкого слоя людей, не удовлетворенных своим положением в настоящем и не видящих иных способов улучшить свое положение помимо радикальных преобразований сложившихся управленческих и экономических моделей (отщепенцев, бедняков, отверженных, представителей различных меньшинств и т.д.) (Хоффер, 2017).
П. Селле рассматривает в этом контексте J-кривую Д. Дэвиса, которую тот называл первопричиной появления массовых протестных движений и увеличения позитивных экономических ожиданий граждан в условиях стабилизации или ухудшения ситуации в соответствующей сфере (Селле, 2009).
Обозначенная исследователями гипотеза получила развитие в рамках концепции относительной депривации Т.Р. Гарра. Последний придерживался мнения, что массовые протестные движения порождает не столько сам по себе низкий уровень качества жизни, сколько формирование у достаточно широких слоев населения представлений о том, что они заслуживают большего, а существующая социально-экономическая модель несправедлива и самим фактом своего существования блокирует для них возможность улучшить свое положение. Все это способствует повышению уровня фрустрации и, как следствие, росту агрессивности масс (Гарр, 2005).
Р.К. Мертон в рамках авторской теории политического протеста обозначил в качестве одного из основных факторов дестабилизации политической системы возникновение существенных расхождений между декларируемыми способами достижения общепризнанных стандартов успеха (посредством использования формализованных институтов) и реальными практиками (Мертон, 1966).
Таким образом, влияние качества жизни на генезис политических рисков традиционно рассматривалось в науке сквозь призму изучения протестов, массовых беспорядков, переворотов и революций.
Отдельные аспекты темы получили развитие в исследованиях, посвященных проблематике электорального поведения. Однако в интересующем нас ключе проблема не была полноценно освещена, поскольку вопрос о месте качества жизни в иерархии факторов, влияющих на поведение избирателей, интерпретируется в ключе широкой дифференциации представителями разных научных школ. Приверженцы социологического подхода (С. Липсет, П. Лазарсфельд, Дж. Розенау и др.) выделяли в качестве ключевой детерминанты электорального поведения социальный статус – фактор, косвенно связанный с определенным уровнем качества жизни, включая конкретный комплекс его внешних признаков (Lasarsfeld, 1969; Rosenau, 1974; Lipset, 1981).
Данная концепция получила развитие в трудах С. Вербы и Н. Ная, предполагавших, что основным фактором, определяющим политические предпочтения и электоральное поведение индивида, является уровень дохода (Verba, Nie, 1972).
Однако представители иных подходов к интерпретации электорального поведения настаивают на вторичности качества жизни как фактора, определяющего действия (либо бездействие) избирателей. Так, в рамках социально-психологического подхода отстаивается приоритетность такого фактора, как влияние семьи и специфики раннего этапа социализации (Cambell, 1960). А представители когнитивной теории настаивают на том, что электоральное поведение определяется в первую очередь уровнем когнитивных способностей индивида и влиянием информационной среды (Малашенко, 2014).
При этом важно отметить: влияние качества жизни на электоральное поведение исследовалось преимущественно на основе изучения кейсов, в рамках которых действия электората менялись интенсивно, но в пределах краткосрочной перспективы и носили сугубо рефлекторный характер. Долгосрочное влияние устойчивых трендов конъюнктуры динамики жизни исследовалось крайне редко. Все это позволяет констатировать наличие существенных лакун в степени изученности вопроса о воздействии качества жизни на формирование политических рисков. И в первую очередь это касается долговременного воздействия на политические ценности и поведение широких слоев населения.
Представленное исследование призвано оценить влияние фактора динамики качества жизни на политическое поведение и ценностные ориентации широких слоев населения в долгосрочной перспективе.
В качестве исследовательского кейса выступает политическое поведение американской молодежи. Под ней в данном случае понимаются представители поколений Y (миллениалы, 1981–1996 г. р.) и Z (1997–2012 гг. р.).
Методология работы выстроена на основе комбинации сравнительного и дескриптивного анализа, а также вторичной обработки данных количественных социологических исследований.
Приступая непосредственно к освещению заявленной темы, в первую очередь необходимо отметить, что в течение длительного времени уровень качества жизни американцев снижается относительно показателей, характерных для периода 1950–1970-х гг.
По данным исследовательского центра «Pew Research Center» за период 1970–2021 гг., доля домохозяйств, обладающих средним доходом, сократилась с 62 до 50 %. При этом уменьшение доли среднего класса фиксируется почти повсеместно. В частности, в 2000–2014 гг. данный факт был отмечен в 203 из 229 крупных городов США. В 53 из них сокращение показателя фиксировалось в пределах 6 % и выше1.
Исследование этого же центра, датированное октябрем 2021 г., также показало: свыше 70 % американцев согласны с утверждением, что в настоящее время молодые граждане Соединенных Штатов сталкиваются с большими затруднениями, чем представители предшествующих поколений, в рамках решения вопросов, связанных с накоплением сбережений (72 %), оплатой обучения в колледже (71 %) и приобретением собственного жилья (70 %). Также около половины респондентов (46 %) заявили, что в настоящее молодым людям сложнее найти супруга или партнера, в том числе – по причине увеличения разрыва между такими показателями, как стандарты качества жизни и реальный уровень благосостояния молодежи.
Большая часть (8 из 10) представителей поколения Z, принявших участие в опросе (то есть респондентов, относящихся к возрастной категории 18–29 лет) также признали, что накопление сбережений и оплата высшего образования являются для них более сложными задачами, чем для их родителей; 84 % респондентов заявили, что для представителей их поколения гораздо сложнее приобрести жилье; 55 % – что в настоящее время найти работу молодым людям сложнее, чем в период юности их родителей. Увеличение сложности задачи поиска супруга или партнера в своих ответах отметили 52 % респондентов из данной возрастной группы2.
По данным на 2019 г. (то есть на момент приостановки платежей по студенческим кредитам из-за пандемии), средний размер долга по соответствующим займам составлял почти 35 000 долл. по сравнению с 13 000 долл. в 1992 г. (в постоянных ценах). В совокупности размер непогашенной задолженности по студенческим кредитам составляет более 1,5 трлн долл., ее размер удвоился по сравнению с 2007 г., в 7 раз превысив величину задолженности по кредитным картам. В настоящее время она уступает по объему только невыплаченным ипотечным кредитам3.
Отдельно необходимо отметить, что одновременно с ростом масштабов студенческого долга увеличивалась и значимость высшего образования как социального лифта. В 1970 г. 69 % выпускников средней школы, принявших решение об отказе от обучения в колледже, принадлежали к среднему классу. К 2021 г. этот показатель уменьшился до 52 %. В то же время доля представителей среднего класса, не окончивших среднюю школу, уменьшилась с 53 до 37 %4.
Рост задолженности по студенческим кредитам в первую очередь был обусловлен повышением стоимости обучения в колледже, которая неуклонно росла и опережала инфляцию на протяжении нескольких десятилетий. Молодые люди старше 20 лет сегодня имеют более серьезные долги, чем представители предыдущих поколений в их возрасте, и это касается в том числе необеспеченной задолженности. Последнее выступает в роли фактора, ограничивающего молодежь в плане приобретения собственного жилья. Темпы, с которыми ее представители сегодня покупают дома, снижаются: в 2006 г. 36,8 % молодых людей в возрасте до 30 лет владели собственной жилой недвижимостью, но к 2013 г. этот показатель снизился до 32,3 %. При этом наблюдается четкая отрицательная корреляция между величиной непогашенной задолженности по студенческим кредитам среди молодежи и темпами, с которыми представители соответствующих поколений покупают дома после «великой рецессии» 2008–2013 гг.1
При этом, согласно информации исследовательского центра «Center on Budget and Policy Priorities», снижается и доступность аренды жилой недвижимости. За период с 2001 по 2019 гг. средний размер дохода домохозяйства-арендатора в Соединенных Штатах увеличился на 3,4 %. Одновременно средний размер стоимости аренды жилья увеличился на 15 %2.
Исследования организации «Joint Center for Housing Studies» показали, что средняя цена «дома на одну семью» в 2011–2017 гг. выросла с 3,3 до 4,2 среднегодовых доходов домохозяйства, то есть увеличилась более чем на 27 %3.
Одновременно социологами зафиксировано резкое изменение политической ориентации молодежи. Для предшествующих поколений было характерно наследование политических (в том числе партийных) предпочтений, относительно невысокой являлась доля совершеннолетних, идентифицирующих себя в качестве независимых избирателей, и в целом наблюдалась равная репрезентация симпатизантов демократов и республиканцев. Однако для миллениалов и представителей поколения Z характерны иные тенденции.
Как показали изыскания центра «Pew Research Center», среди представителей поколения Z доля респондентов, готовых поддержать демократов на выборах, равна 77 %, среди миллениалов – 56 %. Среди иных возрастных групп средний уровень популярности демократической партии составляет около 46 %. При этом ее представителей поддерживает большинство молодых людей в рамках всех гендерных, расовых, этнических и языковых групп4.
И в то же время лояльность граждан США этой категории политическим партиям по большей части утратила безусловный и наследственный характер. Вплоть до начала XXI в. 80–90 % граждан США регистрировались в качестве сторонников Демократической либо Республиканской партии. Но в настоящее время опросы компании «Gallup» показывают, что к категории независимых избирателей себя относят более 50 % миллениалов и представителей поколения Z. Эксперты отмечают, что в целом в последние десятилетия наблюдается увеличение доли независимых избирателей в каждом новом поколении на всех этапах его социализации. За счет последнего доля «беспартийных» американцев внутри одного поколения не уменьшается по мере его взросления. В случае миллениалов в XXI в. она прирастает на 5 % каждые 10 лет5.
Таким образом, мы можем констатировать широкомасштабный рост симпатий к левым и либеральным идеям среди американской молодежи. Этот процесс конвертируется в рост электорального потенциала демократов. Однако поддержка данной партии не является безусловной и носит скорее рациональный характер. Большинство молодых сторонников Демократической партии являются независимыми избирателями и поддерживают «синюю партию», скорее, в противовес республиканцам.
Последнее формирует возможность возникновения нового системно значимого актора в рамках партийной системы США, если демократы не смогут реализовать преобразования, востребованные молодежью. При этом недовольство негативной динамикой качества жизни может наложиться на реакцию молодежи на уступки демократов консерваторам по иным болезненным вопросам (контроль над оружием, доступ к абортам, регулирование миграции, климатическая политика). В качестве организационного ядра-первоосновы для конструирования нового политического актора, противопоставляющего себя как демократам, так и республиканцам, потенциально может выступить альянс так называемых прогрессистов и «левых аутсайдеров».
Все это позволяет предположить, что долговременное падение качества жизни, приводящее к снижению соответствующих параметров на межпоколенческом уровне, может повлечь за собой не только рост протестной активности и кратковременные вспышки аномально высокой электоральной активности (примером чего может служить мобилизация американской молодежи на президентских выборах 2020 г.), но и крупномасштабную ревизию политических ценностей и системы партийной лояльности. А это в перспективе может осложнить ситуацию в обществе возникновением рисков разбалансировки политической системы и появлением внутри нее новых акторов.
При этом можно предположить, что смена ценностных и политических ориентиров в данном случае выступает в роли одной из парадигмальных предпосылок развития протестной активности. В пользу последнего косвенно указывает то, что именно молодежь выступала в качестве основного источника рекрутирования кадров для реализации акций движения «Black Lives Matter» и организации протестов против избрания Д. Трампа, а также митингов в поддержку идеи избавления от мемориального наследия Конфедерации.
Отдельно необходимо отметить, что в данном случае долговременная динамика качества жизни стала источником политических рисков, вероятнее всего, именно в силу воздействия эффекта относительной депривации, поскольку падение уровня жизни проявлялось на качественном уровне именно в межпоколенческом разрезе.
Список литературы Качество жизни граждан как фактор политических рисков
- Гарр Р.Т. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. 460 с. Лебон Г. Психология народов и масс. М., 2011. 240 с.
- Малашенко И.В. Изучение электорального поведения населения: сравнительный анализ зарубежных и отечественных теорий // Вестник Брянского государственного университета. 2014. № 2. С. 89-94.
- Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социология преступности (современные буржуазные теории). М., 1966. C. 299-313.
- Селле П. J-кривая Дэвиса // Теория и методы в современной политической науке: первая попытка теоретического синтеза. М., 2009. С. 371-388.
- Смелзнер Н. Социология. М., 1998. 687 с.
- Сорокин П.А. Социология революции. М., 2005. 702 с.
- Хоффер Э. Человек убежденный: личность, власть и массовые движения. М., 2017. 205 с.
- Cambell A. The American Voter. N. Y., 1960. 573 р.
- Lasarsfeld P. The People's Choice. N. Y., 1969. 214 р.
- Lipset S. Political Man. N. Y., 1981. 687 р.
- Rosenau J. N. Citizenship between Elections. An Inquiry into the Mobilizable American. N. Y., 1974. 566 р.
- Verba S., Nie N. Participation in America. N. Y., 1972. 428 р.