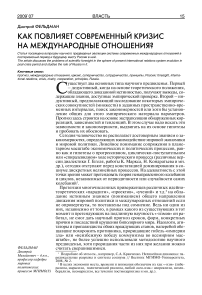Как повлияет современный кризис на международные отношения?
Автор: Фельдман Дмитрий Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Мировой кризис
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам научного предвиденья эволюции системы современных международных отношений в посткризисный период и будущему месту России в ней.
Прогноз, международные отношения, кризи, соперничество, сотрудничество, принципы, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170164927
IDR: 170164927
Текст научной статьи Как повлияет современный кризис на международные отношения?
С уществует два основных типа научного предвиденья. Первый – дедуктивный, когда на основе теоретического положения, обладающего доказанной истинностью, получают выводы, содержащие знания, доступные эмпирической проверке. Второй – индуктивный, предполагающий исследование некоторых эмпирических совокупностей (множеств) в заданных пространственно-временных интервалах, поиск закономерностей или хотя бы установление общих для этого эмпирического материала параметров. Прогноз здесь строится на основе экстраполяции обнаруженных корреляций, зависимостей и тенденций. В этом случае надо искать эти зависимости и закономерности, выдвигать на их основе гипотезы и пробовать их обосновать.
Сегодня человечество не располагает достоверным знанием о закономерностях, определяющих взаимодействие мировой экономики и мировой политики. Линейное понимание сопряжения в планетарном масштабе экономических и политических процессов, равно как и гипотезы о прогрессивном, циклически-поступательном или «спиралевидном» ходе исторического процесса (различные версии диалектики Г. Гегеля, работы К. Маркса, Н. Кондратьева и мн. др.), сегодня отступают перед констатацией доминирования в социуме дискретных нелинейных процессов. На адекватность с этой точки зрения может претендовать теория ненаправленного колебания и циклов, независимых от периодичности или случайности самих колебаний1.
ФЕЛЬДМАН
Дмитрий
Михайлович – д.п.н., профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО(У)
Претензии многочисленных приверженцев различных идейнотеоретических «парадигм», «проектов», «учений» и т.д.2 на обладание истинным знанием (пониманием) общего направления движения мировой политики и международных отношений если не опровергнуты, то поставлены под сомнение. Ведь ни один из них, независимо от того, в рамках какого из существующих в тот момент и претендующих на подлинную научность «-измов» он работал, не смог дать научный прогноз сроков, форм, конкретных причин и последствий крушения биполярного мира. Идеологи, агитаторы и пропагандисты обоих враждующих станов, наперебой обещавшие похоронить противника, прорицавшие гибель «империи зла» или «неизбежную победу коммунизма во всемирном масштабе», не более успешно использовали методологию научного предвиденья, хотя прорицания части из них при желании можно считать св ершившимися.
Примерно та же ситуация характерна для научного понимания развёртывающегося на наших глазах кризиса1. Насколько можно судить, отслеживая характеризующие его показатели, сопоставляя разнородные данные и их интерпретацию, к середине мая 2009 г. нет ясного понимания глубины кризиса, его масштабов, форм дальнейшего развития и разрешения. Тем более сложно уверенно оценивать внутриполитические аспекты кризиса в разных странах и его внешнеполитические последствия в локальном, региональном и глобальном масштабах. Пожалуй, единственное, что объединяет большинство существующих сегодня версий происхождения и развития переживаемого кризиса, – это подтверждение то ли иррациональных предощущений, то ли рационально-интуитивных предчувствий относительно того, что старательно надуваемый всем миром финансовый пузырь рано или поздно неизбежно лопнет. В нашей общественной науке всё это совмещается с вполне рациональным убеждением в непрочности радужной нефтяной плёнки – основного материала отечественного сегмента этого пузыря, т.е. того, что в течение нескольких лет принималось за фундамент социально-политической стабильности и залог поступательного развития «встающей с колен» и идущей к «новому величию» России.
Но совсем ли уж беспомощна современная политическая наука? Нет, не беспомощна. Большая часть претендующих на научность политологических прогнозов строятся индуктивно – на основе экстраполяции полученных результатов в будущее, что кардинально отличается, например, от сценариев того же самого будущего. Методом разработки такого рода прогнозов является экстраполяция динамических рядов сопряжённых процессов и их балансовый анализ по состоянию, имеющему заданные пространственно-временные координаты. В отличие от этого, сценарный подход исходит из недостаточности или невозможности экстраполяции; его познавательная ценность состоит не в прогнозировании, а в указании на предельные альтернативы, «коридоры воз можностей » исследуемых процессов2.
Кризис не «отменит» ни глобализацию, ни локализацию как наиболее общие тенденции мировой политики. Вместе с тем на темпы глобализации всё более заметно будут оказывать возрастающее влияние отдельные государства, транснациональные и национальные бизнес-структуры, успешно преодолевающие кризис и нашедшие свою «нишу» в новых обстоятельствах. Очень вероятен рост политического влияния негосударственных акторов (включая религиозные и криминальные), сумевших оперативно использовать прорехи в институциализации их деятельности на мировой арене. В целом, по мере ухудшения социально-экономических условий жизни в отдельных странах и регионах следует ожидать активизации радикальных и экстремистских («левых», «правых», фундаменталистских, сепаратистских и др.) движений и роста масштабов их транснациональной деятельности.
Правовые противоречия и «нестыковки», характерные для современных международных отношений, складывающихся на руинах Ялтинско-Потсдамской системы, не будут преодолены. Это касается как противоречия между принципами территориальной целостности и права наций на самоопределение, так и противоречия между принципами суверенитета и невмешательства во внутренние дела. «Гуманитарная интервенция», «принуждение к миру», вмешательство с целью предотвращения «гуманитарной катастрофы» и т.д. по-прежнему не будут легитимизированы международно-правовыми документами ни универсальных, ни региональных организаций. Вероятное обострение ситуации актуализирует формирование новой, очередной системы международных отношений, увеличит потребность в модернизации международного права, с тем чтобы отразить опыт международно-политической практики предкризисного и кризисного периодов. Сохраняющиеся неравенство и разрывы между уровнями развития отдельных стран в условиях кризиса чреваты их увеличением и ростом вероятности столкновения их интересов. Наряду с возрастанием «потенциала конфликтности» это обусловит и рост заинтересованности в глобальной управляемости. Прежде всего, конечно, в транснациональном перераспределении ресурсов, предпринимаемом по решению международных инсти- тутов или организаций. Такое перераспределение не только не будет исключать стремление «сильных» взять под контроль ресурсы «слабых», но и может стать легитимизированным способом такого контроля. Кризис даст материал для оценки готовности акторов международных отношений к действиям, ведущим к обострению имеющихся противоречий или к «глобальному управлению без глобального правительства». Но какая бы из этих тенденций ни возобладала, кризис не приведет к отказу государства от доминирующей роли в любой вероятной в обозримом будущем системе международных отношений.
США сохранят доминирующее положение в мировой экономике и финансах, но их политическая роль в мире будет уменьшаться под влиянием смещения центра социально-экономической и общественно-политической активности с «Запада» на «Восток». Получит дальнейшее развитие процесс, неточно называемый «формированием многополярного мира», а на деле означающий подготовку к его очередному, на этот раз не обязательно вооружённому, переделу. Мировой порядок ещё более отчётливо обнаружит свой переходный характер.
Вероятный в условиях кризиса рост полиархии, хаотизации, возрастающей многовекторности внутри мировой политической системы не приведёт ни к утрате ею государственноцентричного характера, ни к вытеснению сложившихся форм и методов государственной дипломатии. Это не будет ограничивать развитие тех видов международных связей, которые показали свою эффективность на протяжении столетий, в том числе и в условиях многочисленных экономических кризисов: контакты транснациональных неправительственных (например, финансовых, правозащитных или криминальных) структур, взаимодействие социальных, религиозных, профессиональных и других общностей, включая объединения «по интересам». Будут ли подобные транснациональные контакты расшатывать или укреплять существующую столетия государственноцентричную систему? В краткосрочной и среднесрочной перспективе они будут её только дополнять – опыт свидетельствует, что подобные контакты вполне успешно совместимы с внешнеполитической деятель- ностью любого, в том числе и либерально-демократического и тоталитарного, государства.
Место России в мире будет определяться не одними только намерениями прийти к 2020 г. (т.е., по-видимому, к посткризисному периоду существования мировой политической системы) в качестве одного из «полюсов многополярного мира», «войти в число пяти стран – лидеров по объёму ВВП» или стать «одним из финансовых центров мира»1. Международно-политический статус России, в первую очередь, будет связан с итогами, достигнутыми в ходе преодоления кризиса. Достижение поставленных целей предполагает решение уже многие десятилетия стоящих перед нашей страной задач модернизации и технологического развития. К чему ведёт неумение решить их, сочетающееся к тому же с амбициозными внешнеполитическими и военно-стратегическими проектами, видно на примере СССР. Складывающаяся в условиях кризиса социально-экономическая обстановка, уменьшение инвестиционных ресурсов, публично признанный политическим руководством РФ провал всех предпринятых до настоящего времени попыток перейти к инновационной модели развития и изменить преимущественно сырьевой характер экономики не могут не повлиять на положение России в посткризисном мире. Роль и место РФ в мировой политике и в этих условиях будет определяться не столько активностью и негосударственными компонентами её дипломатии, сколько характером участия в общепланетарных социально-экономических и политических процессах, наличием растущей «твёрдой» и «мягкой» силы. С учётом этого было бы хорошо, если бы мы сумели, по крайней мере, сохранить и утвердить «докризисный» статус России в посткризисной системе международно политичес ких отношений.