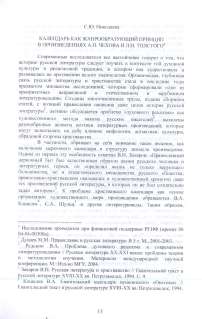Календарь как жанрообразующий принцип в произведениях А. П. Чехова и Л. Н. Толстого
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу изучения литературы в контексте духовной культуры и религиозной традиции, в котором она существовала и развивалась. В частности, рассматривается такое явление, как включение церковного календаря в структуру замысла произведения. Объектом исследований автора стала проза А.П. Чехова и Л.Н. Толстого.
Календарь, церковный календарь, а.п. чехов, л.н. толстой, календарь в творчестве чехова и толстого, православный быт
Короткий адрес: https://sciup.org/146120399
IDR: 146120399 | УДК: 82.091:821.161.1-3+929Чехов+929Толстой
Текст научной статьи Календарь как жанрообразующий принцип в произведениях А. П. Чехова и Л. Н. Толстого
КАЛЕНДАРЬ КАК ЖАНРООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА И Л.Н. ТОЛСТОГО*
Современные исследователи все настойчивее говорят о том, что историю русской литературы следует изучать в контексте той духовной культуры и религиозной традиции, в котором она существовала и развивалась на протяжении целого тысячелетия. Органическая, глубинная связь русской литературы и христианства стала в последние годы предметом множества исследований, которые сформировали одно из приоритетных направлений в отечественном и зарубежном литературоведении. Созданы многочисленные труды, изданы сборники статей, с позиций православия написана даже целая история русской' литературы , активно обсуждается проблема «духовного реализма» как „2 художественного метода многих русских писателен , выявлены разнообразные аспекты поэтики литературных произведений, которые могут испытывать на себе влияние мифологии, догматики, культуры, обрядовой стороны христианства.
В частности, обращает на себя внимание такое явление, как включение церковного календаря в структуру замысла произведения. Одним из первых эту особенность отметил В.Н. Захаров: «Православный церковный быт был естественным образом жизни русского-человека и литературных героев, он определял жизнь не только верующего большинства, но и атеистического меньшинства русского общества; православно-христианским оказывался и художественный хронотоп даже тех произведений русской литературы, в которых он не был сознательно з задан автором» . К проблеме христианского календаря как основе организации художественного мира произведения обращаются В.А. Кошелев , С.А. Шульц и другие литературоведы. Таким образом,
Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ (проект № 04-04-00300а).
-
1 Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 5 т. М., 2001-2003.
Редькин В.А. Проблема духовного реализма в современном литературоведении // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения. Материалы международной научной конференции. М.: Изд-во МГУ, 2004.
-
3 Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX вв. Петрозаводск. 1994. С. 9.
Кошелев В.А. Евангельский календарь пушкинского «Онегина» // Евангельский текст в русской литературе XVIH-XX вв. Петрозаводск, 1994.
проблема христианского календаря в литературе поставлена и изучается. Но на материале русской литературы последней трети XIX - первых десятилетий XX века она не рассматривалась, хотя, по нашим наблюдениям, именно в этот период литературного развития приобрела особое идейно-эстетическое значение в творчестве А.П. Чехова, Л.И. Толстого, И.С. Шмелева.
Трех названных писателей объединяет то, что они проложили особую магистраль в развитии русской литературы. Чехов первым среди писателей XIX столетия использовал христианский календарь во множестве небольших произведений. У Толстого сам принцип церковного года-«круга» лег в основу структуры книги, которую он считал главной на последнем этапе своего творческого пути. Наконец, Шмелев описал православный календарь этнографически точно и сделал его жанровым стержнем своего «романа воспитания» - «Лета Господня». Чехов в данном случае выступает как предшественник Толстого и Шмелева, а Толстой -как посредник между Чеховым и Шмелевым. Попытаемся далее развернуть намеченные тезисы в рамках сопоставления Чехова и Толстого.
Объектом наших наблюдений стала проза Чехова 1880-х гг. Как известно, чеховское творчество представляет собой целостную повествовательную систему, которая складывается из множества небольших рассказов, и эффект этой системы - в том, что она, как мозаика, складывается в единое целое и воссоздает жизнь человеческую от рождения до смерти, путем изображения отдельно схваченных моментов, „ 2 ’ состоянии, ситуации, вариантов личности и судьбы . Практически все эти состояния и ситуации у Чехова приурочены к вехам церковного календаря, что, с одной стороны, является отражением реалий русского быта, а с другой - выражением художественной концепции Чехова, его эстетической и вместе с тем этической модели времени.
Эта чеховская модель вполне может быть описана словами Шмелева: «В круге церковном мы знаем «недели памяти»: о Фоме, о блудном сыне, о самарянине, о слепом, о расслабленном, о женах Мироносицах. Такие памяти есть у всякого народа, во всех религиях: это потребность духа. Эти «памяти» связаны крепко с жизнью, - как бы ее прообразы, вехи, путеводительные столбы ее... Мы связаны круговой порукой и должны верно держать ее, иначе мы пыль и дробь, и ветер развеет нас» . Речь идет об архетипическом значении событий, включенных в церковный календарь, и лиц, участвующих в этих событиях. Изображая своих современников, Чехов соотносит их страдания,
-
1 Шульц С.А. Хронотоп религиозного праздника в творчестве Н.В. Гоголя // Русская литература XIX века и христианство. Под ред. В.И. Кулешова. М„ 1997.
-
2 См. об этом: Громов М.П. Книга о Чехове. М., 1989. ♦
-
3 Шмелев И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т.1. М., 1997. С. 15.
переживания, чувства со страданиями и чувствами евангельских персонажей.
В рассказах 1880-х гг. упоминаются практически все христианские праздники, время празднования которых приходится на зимние, весенние и летние месяцы года. Чехов фиксирует и изображает зимние праздники: Сочельник, Рождество, Святки, Крещение; весенние: Масленицу, Прощеное воскресенье, Страстную неделю, Пасху, Святую неделю, Красную Горку, Фомину неделю, Преполовение. Вознесение, Троицко-семицкую неделю с воробьиными ночами и Троицу, которая венчает собой цепочку весенних праздников и знаменует наступление лета; летние праздники: Петров день, Ильин день, Казанскую летнюю. Часто названия христианских праздников становятся заглавиями чеховских рассказов: «Прощение», «Петров день», «На страстной неделе», «Накануне поста», «Троицын день», «Красная горка» и др.
Отсутствуют в рассказах этого периода отмечаемые летом Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы, все осенние христианские праздники: Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Покров Пресвятой Богородицы, Казанская осенняя и один из зимних праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Необходимо отметить, что все даты, которые напоминают о жизни и смерти Христа и его чудесном воскресении и которые особо почитаемы православной церковью, находят отражение в рассказах писателя. Это объясняется тем, что в сфере внимания Чехова находится личность, ищущая свой путь в жизни, пытающаяся реализовать свой человеческий потенциал. Судьба Иисуса выступает при этом как некий архетип судьбы человека вообще.
Говоря о степени полноты отражения христианского календаря у Чехова, следует отметить, что праздники, которые связаны с образом Пресвятой Богородицы, писатель не упоминает. Богородичные праздники выведены за пределы художественного мира чеховской юмористики, за пределы календаря чеховских комических рассказов. Образ Богоматери для Чехова свят.
Интересно отметить, что такие праздники христианского календаря, а точнее сказать, их обрядовая сторона, как Святки, Масленица, Красная Горка, Троица, представлены у писателя в юмористической форме и в основном в начале 1880-х гг. Позднее, на более зрелом этапе творчества, в чеховских текстах начинают чаще встречаться такие праздники, с помощью которых лирически воссоздается особая духовная атмосфера вокруг героев. Это двунадесятые праздники христианского календаря, которые непосредственно связаны с жизнью, смертью и воскресением Христа: Крещение, Вербное воскресение, Пасха, Вознесение. Образ Христа, несомненно, волнует писателя, иногда Чехов соизмеряет поступки и дела своих героев с Иисусом. Иисус Христос - это вечный пример духовности, преображения, страдания, искупления и спасения человеческой души, и понимание этого является особенностью русского религиозного менталитета.
Что касается функций христианского календаря в пространственно-временной структуре чеховских рассказов, то, во-первых, христианские праздники писатель часто использует для того, чтобы обозначить хронологические рамки своего повествования и тем самым подчеркивает значимость праздника в обыденной жизни человека, когда день или неделя ассоциируется с определенной календарной датой. Во-вторых, христианский праздник приобретает у Чехова хронотопическое значение, причем в начале 1880-х гг., когда писатель показывает в юмористической форме Святки с гаданиями, Масленицу, Красную Горку, время и пространство в его рассказах замкнуто и однородно, что свойственно и хронотопу русской классики. Ранний Чехов находится в рамках классической традиции. На протяжении 1880-х гг. хронотоп христианского праздника у Чехова эволюционирует. В рассказах «Художество», «Мороз», «Верба», «Казак», где события развертываются на фоне Крещения, Вербного воскресения, Пасхи, можно обнаружить, что здесь время-пространство приобретает неограниченность, разомкнутость и психологическую неоднородность, что является отличительной чертой собственно чеховского хронотопа.
Обращение к христианскому календарю придает своеобразие жанровому репертуару чеховской прозы 1880-х гг. (святочный, рождественский, пасхальный рассказы).
Существенно иначе реализован календарный принцип повествования в книге Л.Н. Толстого «Круг чтения» - главном произведении, которое было создано на завершающем этапе творческой эволюции писателя и стало важнейшим, узловым моментом развития. В этой книге сосредоточены размышления Толстого-философа и учителя жизни и вместе с тем художественные искания, эстетические открытия писателя, который в конце 1890-х гг. пересмотрел свои прежние представления об искусстве («Что такое искусство?»). Отказавшись от публикации своих произведений после издания «Воскресения», Толстой, однако, сделал исключение для «Круга чтения», куда вошли не только отредактированные тексты других авторов, ио и его собственные более ранние произведения, а также специально написанные для этой книги («Молитва», «Корней Васильев», «Зерно с куриное яйцо», «Ягоды», «Божеское и человеческое», «Любите друг друга», «Сказка об Иване-дураке...» и др.). Это свидетельствует о том, что данную книгу Толстой считал важнейшим делом своей жизни. «Круг чтения» для Толстого в 1900-е гг. имел то же значение, что «Война и мир» в 1860-е, «Анна Каренина» в 1870-е, «Исповедь» и «народные рассказы» в 1880-е, «Воскресение» в 1890-е.
Несомненным представляется влияние на автора «Круга чтения» старинной -'жанровой традиции - традиции энциклопедичности и «всемирной отзывчивости» таких древнерусских сборников, как «Пчёла».
В «Круге чтения» национальная русская и инонациональные, иноконфессиональные культуры сосуществуют в единстве и гармонии благодаря преображающей и примиряющей силе толстовского таланта.
Художественная целостность «Круга чтения» обеспечивается календарным началом и сформировалась благодаря опоре на несколько иную литературную традицию. Принцип ежедневных, недельных и месячных чтений, несомненно, заимствован Толстым из древнерусской и церковной литературы, с которой он был хорошо знаком. Об этом свидетельствует сопоставление с такими жанровыми образцами, как «Пролог» и «Четьи-Минеи». Толстой использует христианский календарь как структурную основу книги, как стержень, как «несущую конструкцию» всей ее архитектоники. Тем самым он оказывается в магистральном русле литературного развития последней трети XIX - первой трети XX веков, подтверждением тому служит проведенный сопоставительный анализ функций христианского календаря в творчестве Чехова, Толстого, Шмелева. Своеобразие Толстого в том, что он начинает свой «круг», «годичный цикл» не с сентября, не с церковного новолетия, как в древнерусских источниках, а с января, т.е. дистанцируется от чисто религиозного подхода и пишет свою книгу для читателей, живущих в эпоху кризиса религиозного сознания, то есть не только для верующих, но и для «шатающихся», для атеистов.
^03337
Принципиально важным для понимания замысла толстовской книги является слово «круг». «Круг чтения» - это не просто отобранные и рекомендованные для ознакомления образцы литературной и философской мысли, не просто «библиотека для чтения», где книги стоят по алфавиту. Это именно круг, цикл, подразумевающий некую авторскую стратегию, некую внутреннюю закономерность. В центре внимания Толстого в «Круге чтения» находится человек и его внутренний мир, человек на определенном временном отрезке - между рождением и смертью. Поэтому концепция жизненного пути человека приобретает структурообразующее значение в толстовской книге.
Продумывая архитектонику книги, Толстой учитывал, что что существует не только светский, гражданский, но и народный календарь, обусловленный природным и сельскохозяйственным циклом, а также христианский церковный календарь, который в разных конфессиональных ответвлениях может быть ориентирован по-разному: в западном, католическом варианте - в соответствии с «рождественским» культурным архетипом, и в восточном, православном - в соответствии с «пасхальным» культурным архетипом. Христианский календарь соотносит человеческую жизнь с историей земной жизни Иисуса Христа, но при этом западная культура делает основной акцент на Рождестве и на значимости земного пути Господа, а православная - на Пасхе и Светлом Воскресении Христовом. «Всемирная отзывчивость» Толстого проявилась в том, что он в своей книге синтезировал все три существующие «календарные» традиции и подчинил им расположение материала в своей книге.
БИБЛИОТЕКА
ТВЕРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
Первый том «Круга чтения» начинается с 1 января в соответствии с календарем общегражданским, государственным. Однако преобладающая тематика ежедневных и недельных чтений начальных разделов тома связана прежде всего с вопросами рождения и воспитания человека, начальных этапов его жизни. Акцент делается не на физическом, а на нравственном, духовном рождении, и эта смысловая доминанта задается первым недельным чтением - рассказом «Воров сын», переработкой лесковского «рождественского» рассказа «Под Рождество обидели». Идейный смысл данного произведения сводится к тому, что физическое и нравственное рождение человека не совпадают, что последнее может осуществиться только в «ослиных яслях» веры и милосердия других людей. В толстовской интерпретации лесковского текста на первый план вышла именно эта доминанта.
Следующее недельное чтение содержит в себе собственно толстовское произведение «Кающийся грешник» (по мотивам древнерусской «Повести о бражнике»). И «Воров сын», и «Кающийся грешник» ставят целью скорректировать «рождественскую» тематику, внеся новые, дополнительные смысловые коннотации, тяготеющие к «пасхальному» архетипу, так как в обоих случаях речь идет не столько о «рождестве» человека, сколько о его перерождении, о нравственном возрождении, о воскресении души к жизни вечной.
Второй том «Круга чтения» открывается с сентябрьской половины церковного года и с начала нового сельскохозяйственного годичного цикла. Как известно, осенние церковные праздники связаны прежде всего с Богородицей, с различными этапами ее жизни. И Толстой включает в первое октябрьское недельное чтение кардинально переработанный рассказ Тургенева «Живые мощи», повествующий о простой крестьянке, но вместе с тем о святой женщине, которой доступны высшие божественные истины и которая думает не о себе, а о людях и поражает рассказчика своим заступничеством за них.
Особое внимание обращают на себя месячные чтения, композиция которых также имеет глубокий смысл, связанный с календарем. Сюжетнотематическое движение этих чтений подчинено следующей закономерности: в начальной части годичного цикла (и гражданского календаря, начинающегося с января) помещены материалы, пафос которых связан с критикой государства и бюрократической системы, узаконивающей насилие над личностью, а во второй части Толстой переходит к защите труда и отстаиванию его нравственной роли, причем акцент делает на труде физическом, груде земледельца прежде всего, что находит соответствие в народной календарной традиции.
Распределение всего остального материала в книге и его литературная обработка, осуществленная Толстым, обусловлены указанными календарными закономерностями. Поэтому можно говорить о своеобразии редакторского труда Толстого как литературного, художественного труда. Творчество Толстого не «монологично», а
«диалогично», «Круг чтения» - это ярчайший пример серьезной работы позднего Толстого с «чужим словом», результат создания «новых узоров по старой канве».
А.П.Чехов, чья повествовательная система воплотила церковный календарь наиболее широко и всеобъемлюще, оказывается предшественником ЛЛ. Толстого, который первым из русских классиков использовал христианскую календарную схему как структурообразующий принцип одного из своих заглавных произведений.
’. -а
'"ли •
Г» hH