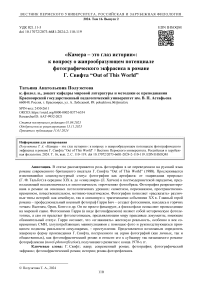«Камера - это глаз истории»: к вопросу о жанрообразующем потенциале фотографического экфрасиса в романе Г. Свифта “Out of this world”
Автор: Полуэктова Т.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль фотографии в не переведенном на русский язык романе современного британского писателя Г. Свифта “Out of This World” (1988). Прослеживается изменившийся социокультурный статус фотографии как артефакта: от «карандаша природы» (Г. Ф. Тальбот) в середине XIX в. до «симулякра» (Л. Хатчен) в постмодернистской парадигме, предполагающей неоднозначность и многозначность «прочтения» фотообраза. Фотография репрезентирована в романе на основных поэтологических уровнях: сюжетном, персонажном, пространственно- временном, повествовательном, мотивно-тематическом. Фотография позволяет «рассказать» различные типы историй: как семейную, так и связанную с трагическими событиями XX в. Главный герой романа - профессиональный военный фотограф Гарри Бич - создает фотоснимки, находясь в горячих точках: Вьетнам, Оран, Конго и др. Он не просто фиксирует, а философски осмысляет происходящее на мировой сцене. Фотоснимки Гарри (в виде фотоэкфрасисов) являют собой историческую фотолетопись, а сам он предстает фотолетописцем, предъявляющим миру правдивые документы, имеющие обвинительный статус. Гарри осознает, что «сглаживать» жестокую реальность, особенно в век современных СМИ, злоупотребляющих манипуляциями с помощью фото и руководствующихся принципом подмены реальности симулякрами, - преступление. Представляется возможным определить жанровую форму произведения Г. Свифта, построенного на серии фотографий (как личных, так и общественных), как фотоэкфрастический роман и отнести его к субжанру так называемого романа- фоторефлексии (novel-photoreflection), получившего развитие с конца 1970-х гг.
Г. свифт, жанр, современный роман, фотография, фотографический экфрасис, фотоэкфрастический роман, история, роман-фоторефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/147244088
IDR: 147244088 | УДК: 821.11-3 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-2-110-119
Текст научной статьи «Камера - это глаз истории»: к вопросу о жанрообразующем потенциале фотографического экфрасиса в романе Г. Свифта “Out of this world”
Камера – это глаз истории.
Мэтью Брэди
Это иллюзия, что фотографии сделаны с помощью камеры… Они сделаны глазом, сердцем и головой.
Анри Картье-Брессон
В середине XIX в. фотографию в первую очередь воспринимали как отражение правды действительности: подтверждением тому являются многочисленные документальные фотографии (портреты, пейзажи, городская жизнь, памятники архитектуры, военные фоторепортажи и др.). Для писателей-реалистов появление дагерротипа, получившего «похвалу за свою точность, детализацию и резкость» [Bate 2016: 144], оказалось созвучно и художественному методу. Дагерротип воспринимался как копия реального мира, слепок с действительности, что подтвердит в начале 1840-х гг. Г. Ф. Тальбот, английский ученый, один из изобретателей фотографии, издавший альбом «Карандаш природы» (“Pencil of Nature”, 1844–1846): «Одним из преимуществ Фотографического Искусства будет возможность запечатлеть множество деталей, которые добавят правдивости и реалистичности изображениям, ни один художник больше не будет утруждаться точным копированием натуры» [Talbot 1844: 33]. Не обошла вниманием этот потенциал британская писательница, искусствовед и фотограф-любитель Э. Истлейк в статье 1857 г.: «Ее ( фотографии. – Т. П.) дело – подтверждать факты так подробно и беспристрастно, как, к нашему стыду, может подтвердить только неразумная машина» [Eastlake 1857].
Иное восприятие фотографического изображения оформляется в постмодернистской парадигме, где оно выступает носителем таких бинарных оппозиций, как факт / вымысел, естественность / постановочность, объективность / субъективность и т. д. Канадский литературовед Л. Хатчен неоднократно подчеркивает в своих исследованиях органичность поэтики фотографии в философии постмодернизма: она «…ис-пользует и бросает вызов как объективному, так и субъективному, технологическому и творческому» [Hutcheon 2001: 121], «особым образом выдвигает на передний план свою неизбежную идентичность симулякра, открыто предлагая как свою очевидную интертекстуальность, так и свою неоспоримую природу многократно воспроизводимых средств массовой информации, как вызов “ауратическому” искусству и связанным с ним гуманистическим предположениям о субъективности, авторстве, сингулярности, ори- гинальности, уникальности и автономности» [Hutcheon 2004: 228].
Фотография выступает нарративной категорией в творчестве ряда писателей начиная с 1980-х гг. В качестве примеров назовем “Out of This World” (1988) Г. Свифта, «Мастер Джорджи» (1998) Б. Бейнбридж, «Гельмут» (2001) Р. Сейфферт, «Баталист» А. Переса-Реверте, «Хранительница тайн» (2012) К. Мортон, «Девушка с Лейкой» (2018) Х. Янечек, «Семь лун Маали Алмейды» (2022) Ш. Карунатилака и др.
В анализируемом романе “Out of This World” фотография представлена Г. Свифтом (р. 1949) как один из ведущих социокультурных феноменов второй половины XX в., отражающих постмодернистское размывание границ между реальностью и созданным образом. Это проявляется в репрезентативном статусе фотографии, лежащей в основе поэтики романа Г. Свифта. Рассмотрим функционально-содержательную специфику фотографии на поэтологических уровнях романа.
Сюжетно-композиционная организация
В романе отчетливо прослеживаются две сюжетные линии: 1) семейная история и 2) история, связанная с трагическими событиями XX в. Эти две линии тесно переплетены друг с другом, образуя единое художественное полотно, обусловленное вниманием Г. Свифта к исследованию истории как таковой: масштабной и личной одновременно. Это не раз отмечалось как зарубежными, так и отечественными исследователями [Logotheti 2002; Malcolm 2003; Widdowson 2006; Хьюитт 2007; Popova 2008; Проскурнин 2013; Судленкова 2015; Стринюк 2018 и др.]. Объединяющим началом сюжетных линий является рефлексивность и исповедальность рассказываемых историй.
Семейная история излагается в форме воспоминаний-монологов двух главных (Гарри Бич и его дочь Софи) и второстепенных персонажей (Джо, муж Софи, и Анна, ее мать). Из субъективных воспоминаний рассказчиков, уподобляющихся разрозненным фотоснимкам, читатель узнает о семейных разногласиях и их причинах.
Мужчины семьи Бич имеют непосредственное отношение к войне. Так, Роберт Бич – в прошлом участник Первой мировой войны, после возглавил компанию Beech Munitions по производству оружия и боеприпасов («В результате Великой войны в 1918 году он остался без жены, без двух братьев и без руки. Но он получил звание майора, крест Виктории и сына, которого из-за периодов госпитализации он почти не видел в первый год его жизни, но которого, во всяком случае, сын позже догадается, у него вообще не было особого желания видеть. ˂…˃ Кроме того ˂…˃ он был единственным наследником семейного бизнеса» [Swift 1988: 198]1 (перевод здесь и далее выполнен автором статьи).
Гарри Бич, его сын, – 64-летний профессиональный военный фотограф (род. в 1918 г.). Отец всячески пытается вовлечь сына в семейный бизнес, однако Гарри не поддерживает дело отца, что и становится причиной их конфликта.
Из воспоминаний Софи, рассказываемых во время сеансов ее психиатру – доктору Клейну, читатель узнает о причинах ее разрыва с отцом. Сколько Софи себя помнит, она всегда ощущала нехватку отцовского внимания из-за его привязанности к профессии, а его поступок, совершенный в день трагического убийства ее деда (23 апреля 1972 г.) – Роберта Бича, еще больше отдалил их друг от друга. Это произошло по причине того, что Гарри, рефлекторно следуя фотожурналистской привычке, запечатлевает момент взрыва заминированного автомобиля, в котором находился его отец. Трагическая ирония заключается в том, что теракт был совершен членами «Ирландской республиканской армии» (I.R.A.), с использованием оружия, созданного компанией Р. Бича: «…это привело к появлению образа производителя оружия как покровителя терроризма, наемника среди наемников, что вряд ли уместно для компании, которая к настоящему времени фактически стала агентством Министерства обороны» (90). После этой трагедии Гарри отказывается от фотографии как таковой. В результате случившегося Софи никогда не произнесет слово «папа», а только «Гарри». На протяжении всего повествования она пытается восстановить собственную идентичность, а в открытом финале романа Софи с детьми летит в Великобританию, тая надежду на возможное примирение с отцом.
Пространственно-временная организация
События личной жизни персонажей в романе обусловлены конкретными историческими событиями, многие из которых, ставшие трагическими вехами XX в., попадали в объектив фотоаппарата Гарри: Нюрнбергский процесс, война во Вьетнаме, Оран, Конго и др. Однако фрагментарность повествования не позволяет изложить их в линейной последовательности – эта ведущая черта поэтики Г. Свифта, отмечаемая многими исследователями: «История также очень четко выдвигается на передний план в совершенно нехронологическом изложении событий в романе» [Malcolm 2003: 117], «Сплетенные воедино пространственно-временные пласты романов Свифта помещают героя в некую «иррациональную вселенную», где царит первозданный хаос идей, чувств, представлений, из которого герой и плетет свою нить жизни» [Стринюк 2018: 97] и др.
Знаменательным событием для Гарри, тогда начинающего новостного фотографа, стала поездка в 1946 г. на «показательный» Нюрнбергский процесс. Он был среди фотографов, целью которых было представить со всей документальной точностью группу военных преступников нацистской Германии. И каково же было его удивление, когда он открыл для себя всю «обыденность» в лицах осужденных: «И тут я понял. Именно эту обыденность я должен запечатлеть. Эта ужасная обыденность. Факт этой обыденности. Я должен показать, что монстры не принадлежат к удобным сказкам. Что худшие поступки совершаются людьми, которых никто не выделил бы из толпы» (102). После казни среди толпы обычных людей, чьи «лица выражали убийственное ликование» (104), он также подмечает эту обыденность…
Гарри не просто фиксирует, а философски осмысляет происходящее на мировой сцене. Фотоснимки Гарри представляют собой историческую фотолетопись, а сам он является фотолетописцем, предъявляющим миру правдивые документы, имеющие обвинительный статус. Смотреть правде в глаза, а не ретушировать ее, какой бы ужасной она ни была – такова его задача: «Видеть – значит верить, и определенные вещи должны быть увидены, чтобы быть совершенными. Без камеры мир мог бы начать сомневаться» (102).
Большинство фотографий, сделанных Гарри в горячих точках, изданы в его коллекционном альбоме Aftermaths. Среди них, например: «…фотография вьетнамской женщины с перекошенным лицом, держащей на руках окровавленного ребенка»; «Южный Вьетнам, ноябрь 65го. Лежащий на спине солдат в окружении двух страдающих приятелей (шлемы сняты: видно распятие) и медик с капельницей» (116); «Северо-восточное Конго, октябрь 64-го. Трое заключенных сидят на корточках под навесом из банановых листьев, руки связаны за спиной, а шеи – веревкой. Позади них стоит охранник или похититель в камуфляжной форме для джунглей, держа в руках с автоматическую винтовку. Охранник дородный, прямой и на данный момент полностью поглощен тем, что его фотографируют. Он улыбается в камеру, как жизнерадостный торговец. Заключенные, одетые только в шорты и майки, тоже стоят лицом к камере, но на глазах у них повязки» (там же); «Кадр из Ки-рении, Северный Кипр, апрель 64-го… Внутренняя сцена после минометного обстрела. Мальчик-подросток приседает на корточки рядом с растерзанной жертвой, но в момент съемки его голова умоляюще поворачивается, еще не заметив (последнее, чего он ожидал) камеру. Его лицо – размытый крик о помощи» (118) и др. Собрание такого рода фотографий прочитывается читателями/зрителями с помощью так называемого studium'а – понятия, введенного Р. Бартом в его знаменитом эссе “Camera lucida” (1979). Такой режим прочтения апеллирует к коллективному культурному контексту: «Я, – пишет Р. Барт, – потому ли, что воспринимаю их как политические свидетельства, потому ли, что дегустирую их как добротные исторические полотна; в этих фигурах, выражениях лица, жестах, декорациях и действиях я участвую как человек культуры» [Барт 2016: 38–39]. Оттого Гарри важно донести до созерцателей этого мира идею необходимости сохранения гуманности, любви и ускользающей гармонии. Военные фотографии, собранные воедино в романе, представляют собой исторический фотоальбом, так называемое визуальное повествование о катастрофах XX в.
Повествовательная организация
Техника повествования в большинстве романов Г. Свифта подобна, как отмечает английский литературовед К. Хьюитт, фотоаппарату с набором объективов разной степени увеличения, а получившийся набор снимков он использует «для создания своих этических драм, где эмоции переплетены с идеями» (см. подробнее: [Хьюитт 1998]). Не является исключением в этом плане и роман “Out of This World”, в основе повествовательной структуры которого лежат фотоснимки: каждая глава-монолог – это, по сути, отдельная фотография (неоднократно подчеркивалось рядом исследователей). Воспоминания героев в романе, травмированных большой и малой историями, уподобляются серии фотографий, предназначенных как для слушателей, так и зрителей: «Они размышляют и рассказывают о своем прошлом опыте, чтобы избавиться от своих навязчивых идей и травм. Их слова рисуют картину прошлого, которое они открывают нам, их идентичности, которая является не чем иным, как еще одной фотографией» [Catana 2015: 84]. Каждый герой романа пытается проанализировать свою жизнь, что схоже с пристальным всматриванием в фотографию, в ее мельчайшие детали, которые остаются незамеченными при беглом просмотре.
Совокупность фотоэкфрасисов в романе, обусловливающих процесс воспоминаний героев, подчас сбивчивых и хаотичных, свидетельствует о поиске героями своей идентичности. Этот мучительный процесс поиска определяет исповедальный дискурс, столь характерный, как справедливо отмечает О. А. Джумайло, для английского постмодернистского романа 1980–1990-х гг.: явстве- нен интерес к «исповедальному “Я”, страдающему и вопрошающему субъекту» [Джумайло 2014: 8], а сам субъект «остается незавершенным для самого себя, вопрошающим об опыте страдания, непоправимости существования и возможности его осмысления» [там же: 8–9]. Вопрошающие субъекты (Гарри и Софи) в романе Г. Свифта пытаются каждый по-своему осмыслить трагическую семейную историю, в которой много непонимания, чувства вины, обиды, разочарования и отчаяния. При этом осмыслению подвергается неразрывно связанная с ней так называемая «большая» история, от которой они пытаются убежать. Таким образом, пристальное всматривание персонажей в фотоснимки и их комментирование сопровождаются поисками героев собственного Я, обусловленными самой природой фотографии: она «…обладает потенциалом для записи и отображения мимолетных моментов переживаний, которые до сих пор язык мог передать лишь частично. ˂...˃ камера удовлетворяет человеческое стремление к объяснению, интерпретации и “обладанию” ускользающей реальностью» [Woollons 1997: 47].
Как семейные, так и исторические фото являются катализаторами воспоминаний героев, за счет которых совершаются экскурсы в прошлое. Так, например, Гарри, восстанавливая историю фотографии как таковой, мысленно перемещается в начало XX в., когда мир на фото был представлен сепией. Это происходит в тот момент, когда он случайно находит в незапертом столе отца старинную фотографию и оказывается лицом к лицу с запечатленной на ней женщиной. Глядя в глаза своей матери, умершей при родах, Гарри задается вопросом и тем самым пытается приблизиться к неуловимой сущности запечатленного образа – знакомого и незнакомого одновременно: «Факт или призрак? Правда или мираж? Раньше я верил – и исповедовал это в дни своей профессиональной деятельности, что фотография – это позитивная истина, воплощенный факт и неопровержимая улика. И все же: объясните мне этот проблеск нереальности. Как это может быть? Как может случиться, что мгновение, случившееся один раз и только один раз, остается постоянно видимым? Как могло случиться, что женщина, которую я никогда раньше не знал и не видел, хотя я не сомневался, кто она такая, смотрела на меня с коричневой поверхности листа бумаги?» (205). Этот образ на снимке, как и все остальные в романе, нарративен и позволяет Гарри ощутить временной промежуток, разделяющий «тогда» и «сейчас», заново пережить и переосмыслить свой жизненный путь, установить диалог с самим собой. Он «прочитывает» этот образ в бартовском режиме – punc- tum’e, который, как отмечает С. Н. Зенкин, сопровождается «откровением» и мистическим характером переживания [Зенкин 2023: 578]. Эта «встреча» удивительным образом напоминает «фотографию в Зимнем саду» в «Камере люци-де» Р. Барта, когда он находит снимок своей матери в 5-летнем возрасте и заново ее обретает. Фотоснимок матери Гарри является завершающим в серии фотоэкфрасисов всего романа и выступает символическим обретением самого себя. После этой «случайной находки» Гарри мысленно переносится в свое детство, в 1928 г., когда отец подарил ему камеру и захватывающий дух полет на ярком биплане. Тогда Гарри, наблюдая за отцом с высоты птичьего полета, поймал себя на мысли, что «как будто он подтолкнул меня к этому чудесному созерцанию неба, подарил мне его, а затем незаметно отнял его. Я мог бы взлететь, а он остался бы. …Теперь я вижу, что на протяжении всего этого путешествия домой его ноги, должно быть, все еще стояли на земле, увязая в грязи. И меня поднимало вверх и уносило прочь, из его мира, из века грязи, из этого бурого, мрачного века в век воздуха» (208). Уже в этот момент Гарри, будучи ребенком, раскрывается как человек, тонко чувствующий ускользающую красоту этого мира и обретающий гармонию вне этого мира.
Этическая проблематика романа о военном фотографе
В романе Г. Свифта, как и в обозначенных в начале статьи произведениях, кроме прочего, маркируется общая проблематика, связанная с этической позицией военного фотографа: с какой точки зрения освещать события, насколько быть беспристрастным, какова степень морального права запечатлевать страдания раненых и изувеченных, а тем более умирающих? Эти и другие вопросы, связанные с этикой военной фотографии, освещает и С. Сонтаг в книге «Смотрим на чужие страдания»: «Полагаю, есть что-то безнравственное в конспекте реальности, представляемом фотографией; что никто не вправе наблюдать страдания других на расстоянии, будучи избавленным от прямого контакта с происходящим; что мы платим слишком большую человеческую (или моральную) цену за прежде восхищавшую способность зрения – за возможность стоять в стороне от агрессии мира и наблюдать, выбирая объекты, достойные интереса» [Сонтаг 2014: 88]. Первые военные фотографы, появившиеся во время Крымской кампании 1853–1856 гг., уже тогда «столкнулись с неприязнью участников военных действий. Солдаты и генералы полагали, что фотографы занимаются откровенной спекуляцией, искажая смысл того, что происходит на военной арене. По их мнению, фотографы демонстрировали примеры недостойного поведения – во-первых, фотографируя события, а во-вторых, не занимая при этом четко выраженной позиции. Претендуя на объективность, репортеры вели съемку глазами как “той”, так и “другой” стороны» [Васильева 2019: 231]. Так, например, прототипом безымянного военного фотографа в романе Б. Бейнбридж «Мастер Джорджи» (1998) является первый военный фотокорреспондент Роджер Фентон (1819–1869), командированный британским правительством на Крымскую войну с определенной миссией – с помощью постановочных фотографий отразить и тем самым сформировать у общественности, в первую очередь британской, «благоприятное впечатление о непопулярной войне» [Сонтаг 2014: 38]. И, действительно, при взгляде на эти снимки не ощущается той трагедии, связанной в первую очередь с Атакой легкой кавалерии. Его «приятные глазу» фотографии солдатских будней стали своеобразным ответом на беспристрастные сенсационные репортажи У. Г. Рассела, корреспондента «Таймс», ставшего, в свою очередь, прототипом Помпи Джонса (военный фотограф) в романе Б. Бейнбридж «Мастер Джорджи», делающего такие же беспристрастные фотографии смертельных ранений для медицинского колледжа: первый снимок – это «ампутированные конечности; на белом фоне разложены – просто картина. Особенно я остался доволен пучком травы, зажатой в кулаке. На втором была похоронная церемония на недавно оставленной местности» [Бейнбридж 2001: 179]. О. Г. Сидорова справедливо отмечает значительную роль прессы (журналистов, фотографов) в отражении образа Крымской войны в английской литературе [Сидорова 2019: 151].
Гарри – герой рефлексирующий и философствующий, «…его больше занимает природа человеческой жестокости и то, почему эта разрушительная жестокость представляет собой такой соблазн для многих людей» [Хьюитт 1998: 266]. Болезненные воспоминания Гарри, связанные с этими фотографиями, актуализируют в романе этическую проблематику, соотносимую с журналистской этикой: «…цель репортерских снимков, свободы выбора объектов репортажа и их интерпретации, мотивы риска, которому подвергают себя фотографы, соотношение профессионального долга и гуманности и др.» [Судленкова, 2015: 105]. Показательным примером является сделанная им фотография «Ланкастерский пилот». На снимке запечатлен выносимый из поврежденного бомбардировщика умирающий пилот, тело которого было искорежено от боли, а после он был посмертно награжден за героический по- ступок. Когда снимки были напечатаны, Гарри размышляет о двух категориях – «подвиг» и «правдивость» фотографии. Подвиг пилота, посадившего самолет, несомненен, и при этом «подвиг» «… наводит на мысль ˂…˃ о чем-то гламурном и символичном: красивое лицо, обращенное к какой-то опасной перспективе» (107). Но Гарри смотрит на это фото сквозь призму взгляда его родителей, его девушки и мысленно солидаризируется с ними в том, что героизм молодого летчика мог быть иного рода и отнюдь не трагическим. Осмысляя акт фотографирования этого момента, Гарри рассуждает, что «…пусть это не будет иметь эстетического содержания, пусть всё будет так, как есть, среди вещей. Поскольку я уже знал, что фотографии, сделанные даже в самых хаотичных обстоятельствах, вырванных из бешеного потока событий, могут приобрести извращенную формальность и уравновешенность. Я думал об этом, когда делал снимок. Я не думал о пилоте. Было ли это проявлением бесчеловечности?» (106). Рефлекторная преданность делу Гарри ставит его, как и в случае с фото убитого отца, в положение, с одной стороны, незваного гостя, с другой стороны – в положение вынужденности, особенно, когда речь идет о природе новостной фотографии, ее ценности, заключающейся «…в ее актуальности, в ее отсутствии предвзятого такта, в самой ее силе вторжения. Этого нельзя было добиться, если сначала постучать в дверь» (117). И он уверенно предъявляет неискаженную фотографию бесчинств этого мира, совершенных им же.
Одной из точек отсчета меняющейся реальности являются Ирландские события 1972 г., которые Гарри определяет как «”зловещие времена” буквально вторгшегося “нового, варварского”, мира, мира, который больше не придерживается своих прежних границ, прежнего протокола. Бомбы взрываются в аэропортах, посольствах, торговых центрах, домах» (92). Подобные философские размышления Гарри созвучны идеям ряда английских писателей, принадлежащих к поколению Г. Свифта и проявляющих «интерес к сравнению прошлого с настоящим. Для них не очевидно, что наш век представляет собой прогресс по сравнению с веками ушедшими. Не утверждают они и того, что раньше было лучше. Они озадаченные люди» [Хьюитт 1995: 233]. Гарри осознает, что приукрашивать, «сглаживать» жестокую реальность – преступление, особенно в век современных СМИ, «…когда на телевидении никогда не бывает достаточно кадров из реальной жизни. Так что теперь непросто отличить настоящее от подделки или мир на экране от мира за его пределами» (188). Различные манипуляции с изображением, как то: редактирова- ние, ретуширование, фотомонтаж, включение снимка в тот или иной контекст – кардинальным образом меняют его восприятие субъектом, предполагают неограниченную интерпретацию и тем самым конструируют иную реальность – гиперреальность, в которой «информация не содержит никакого смысла, а лишь “разыгрывает” его» и которая «окончательно заслоняет собой действительный мир, делает его недоступным для людей» [Ильин 2004: 373]. Принцип подмены реальности симулякрами стал одним из ведущих принципов современных СМИ: «Когда вы записываете что-то, когда вы фиксируете что-то документально, вы уже отчасти решили, что потеряете это» (55). Стеф Крэпс, профессор английской литературы Гентского университета, занимающийся изучением культурной памяти, рассуждая о миметической природе фотографии, отмечает, что «…в эпоху симуляции все заканчивается тем, что возникает чувство утраты реальности. Таким образом, можно видеть, что она выполняет ту же функцию затемнения реальности, что мифы и легенды, которые, как ожидалось, она должна была развеять» [Craps 2003: 296]. Для Гарри, в отличие от многих современных фотожурналистов, объективное следование точности и правдивости запечатлеваемых событий становится ведущим принципом его фотографий: «Никакого искусства. Просто обычная фотография. Избегайте красоты, композиции, утверждений, символов, красноречия, риторики, этикета, вкуса. Все это – живопись. Но просто держи затвор открытым, когда мир захочет закрыть глаза» (92). Роман наполнен большим количеством философских размышлений, идей Гарри о природе и статусе фотографического изображения, обусловленных его однозначной позицией неприятия жестоких бесчинств внешнего мира. Отстаивая позицию сохранения духовно-нравственных ценностей как залога гармоничного сосуществования человека с Другим, Гарри-фотограф становится философом. Эту совместимость тонко отметил режиссер А. С. Кончаловский: «Думается, фотограф начинается там, где начинается философ, где фотография – не просто фиксация реальности, но выражение определенного индивидуального мировоззрения» [Кончаловский 2013: 30]. Отсюда становится понятной уверенность Гарри в отказе от сотрудничества с отцом и в утверждении своей миссии в качестве фотографа.
Жанровая специфика романа“Out of Тhis World”
Для романа Г. Свифта “Out of Тhis World” характерна жанровая гибридность. Так, профессор Гданьского университета Д. Малкольм отмечает наличие в романе черт семейной саги, исторического и психологического романа, сказки, греческой легенды, телевизионного некролога, интервью, а также эссе (о фотографии). О. А. Суд-ленкова рассматривает его как «вариант или модификацию традиционного романа о художнике» [Судленкова 2015: 103] в широком значении, в узком – как роман о профессиональном фотографе. В свою очередь отметим в романе черты еще одной модификации романного жанра, принципиально важной с точки зрения его структурносодержательных характеристик. Речь идет о фото-экфрастическом романе (photoekphrastic novel), в котором репрезентативность фотографии, как было представлено выше, проявляется на нескольких поэтологических уровнях: сюжетном, персонажном, пространственно-временном, повествовательном, мотивно-тематическом. И здесь же представляется возможной следующая его конкретизация: принадлежность к так называемому роману-фоторефлексии (novel-photoreflection), в основе которого лежит условный фото-экфрасис (notional photoekphrasis), описывающий фотографию, созданную исключительно субъективной авторской интенцией, сопровождаемую повышенной рефлексией героя (см. подробнее: [Полуэктова 2021]).
Роман Г. Свифта “Out of Тhis World” органично вписывается в контекст visual studies , непосредственно связанных с визуальным поворотом ( visual turn ). Визуальный образ в конце XX в. «говорит» человеку подчас больше, нежели текст, что обусловлено неоспоримым фактом: «На смену миру вещей пришел мир изображений, и сами изображения стремятся стать миром» [Руйе 2014: 174]. Фотография как одна из сильнейших социальных практик участвует в формировании социально-культурного пространства. Неслучайно роман Г. Свифта предварен эпиграфом: «Чего не видит глаз, о том не тревожится сердце», свидетельствующим о роли видения ( vision ) как культурно-обусловленного процесса, особенно в наше время.
Примечание
-
1 В дальнейшем ссылки на это издание даются с указанием страниц в круглых скобках.
Список литературы «Камера - это глаз истории»: к вопросу о жанрообразующем потенциале фотографического экфрасиса в романе Г. Свифта “Out of this world”
- Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / пер. с фр. М. Рыклина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 192 с.
- Бейнбридж Б. Мастер Джорджи / пер. с англ. Е. Суриц. М.: Иностранка: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001. 190 с.
- Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. М.: Новое лит. обозрение, 2019. 312 с.
- Джумайло О. А. Английский исповедально-философский роман 1980–2000 гг.: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2014. 40 с.
- Зенкин С. Н. Imago in fabula: Интрадиегетический образ в литературе и кино. М.: Новое лит. обозрение, 2023. 624 с.
- Ильин И. П. Симулякр / Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия / гл. науч. ред. Е. А. Цурганова. М.: Intrada, 2004. С. 372–373.
- Кончаловский А. С. 9 глав о кино и т. д. М.: ЭКСМО, 2013. 176 с.
- Полуэктова Т. А. Фототекстуальность как категория поэтики английского романа: жанровая репрезентативность // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2021. Т. 13, вып. 4. С. 110–110. doi 10.17072/2073-6681-2021-4-100-110
- Проскурнин Б. М. О некоторых тенденциях развития современной английской литературы (судьбы романа в Англии 1980–2000-х гг.) // Мировая литература в контексте культуры. 2013. № 2. С. 38–51.
- Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством / пер. с фр. М. Михайловой. СПб.: Клаудберри, 2014. 712 с.
- Сидорова О. Г. Современная литература Великобритании и контакты культур. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; СПб: АЛЕТЕЙЯ, 2019. 312 с.
- Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / пер. с англ. В. Голышева. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 96 с.
- Стринюк С. А. Грэм Свифт. Персонифицированная история в романе «Последние распоряжения» // История зарубежной литературы. Современная английская литература / И. А. Авраменко, Н. С. Бочкарева, Л. В. Братухина, В. А. Бячкова, К. В. Загороднева, И. А. Новокрещенных, Б. М. Проскурнин, С. А. Стринюк, И. В. Суслова; под общ. ред. В. А. Бячковой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. С. 94–110.
- Судленкова О. А. Этическая проблематика романа о фотографе // Английская поэзия романтизма и современная проза: статьи разных лет. Минск: МГЛУ, 2015. С. 103–107.
- Хьюитт К. Новая английская беллетристика спрашивает: «Почему?» // Иностранная литература. 1995. № 10. С. 233–238.
- Хьюитт К. О Грэме Свифте: современный английский романист. Семьи, наваждения и «Последние распоряжения» / пер. с англ. В. Бабкова // Иностранная литература. 1998. № 1. С. 264–269.
- Хьюитт К. Современный английский роман в контексте культуры. Комментарий как форма преподавания / пер. с англ. Н. Эйдельман // Вопросы литературы. 2007. № 5. С. 46–72.
- Bate D. Daguerre’s Abstraction // Photographies. 2016. Vol. 9. No. 2. Р. 135–146. doi 10.1080/ 17540763.2016.1185881
- Catanâ E. S. Revisited Photographs and the Past in Graham Swift’s Out of This World. Reshared Stories, Reshaped Memories // Romanian Journal of English Studies. 2015. No. 12(1). Р. 82–87. doi 10.1515/rjes-2015-0010
- Craps S. Cathartic Fables, Fabled Catharses: Photography, Fiction and Ethics in Graham Swift’s Out of this World // European Journal of English Studies 2003. Vol. 7. No. 3. Р. 293–309.
- Eastlake Е. Photography // The London Quarterly Review. 1857. No. 101. Р. 442–468.
- Hutcheon L. The Politics of PostModernism. London and New York: Routledge, 2001 [1989]. 195 р.
- Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. Taylor & Francis, 2004 [1988]. 288 р.
- Logotheti A. From Storytelling to Historia: The Fiction of Graham Swift. Doctoral thesis, Goldsmiths, University of London [Thesis], 2002. 256 р.
- Malcolm D. Understanding Graham Swift. Columbia: University of South Carolina Press, 2003. 238 р.
- Popova I. Just so stories: on the novels of Graham Swift // Footpath: A Journal of Contemporary British Literature in Russian Universities. 2008. No. 1. Р. 42–55.
- Swift G. Out of This World. London: Picador, 1988. 208 p.
- Talbot H. Fox. The Pencil of Nature. London, Longman, Brown, Green and Longmans, 1844. URL: https://monoskop.org/images/4/4b/Talbot_H_ Fox_The_Pencil_of_Nature.pdf (дата обращения: 10.07.2023).
- Widdowson P. Graham Swift. Tavistock: Liverpool, 2006. 123 р.
- Woollons J. Authentic synthetics: Three novels by Graham Swift: master’s thesis. Canterbury: University of Canterbury, 1997. 113 p. URL: https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/7032/woollons_thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.07.2023).