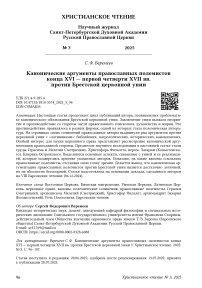Канонические аргументы православных полемистов конца ХVI — первой четверти ХVII вв. против Брестской церковной унии
Автор: Веремеев С.Ф.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья продолжает цикл публикаций автора, посвященных проблематике канонического обоснования Брестской церковной унии. Заключение унии вызвало неприятие и противодействие со стороны части православного епископата, духовенства и мирян. Это противодействие проявлялось в разных формах, одной из которых стала полемическая литература. На страницах своих сочинений православные авторы выдвинули ряд аргументов против церковной унии с «латинянами»: библейских, патрологических, исторических, канонических. Особый интерес для науки церковного права представляет рассмотрение канонической аргументации православной стороны. Предметом научного исследования в настоящей статье стали труды Герасима и Мелетия Смотрицких, Христофора Филалета, иером. Захарии (Копыстенского), Клирика Острожского. Выделяются основные аспекты, связанные с унией и ее реализацией, которые подверглись критике указанных авторов. Показано, на какие каноны ссылались православные полемисты, отстаивая свою точку зрения. Делается вывод, что каноническая аргументация православных полемистов против Брестской унии является достаточно логичной, но не абсолютно бесспорной. Статья подготовлена на основании доклада, сделанного автором на VIII Барсовских чтениях (06.12.2024).
Восточная Церковь, Киевская митрополия, Римская Церковь, Латинская Церковь, церковное право, каноны, полемические сочинения, православные полемисты, Герасим Смотрицкий, архиепископ Мелетий (Смотрицкий), Христофор Филалет, архимандрит Захария (Копыстенский), Речь Посполитая, Барсовские чтения
Короткий адрес: https://sciup.org/140312295
IDR: 140312295 | УДК: 271.4-9-285.4 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_96
Текст научной статьи Канонические аргументы православных полемистов конца ХVI — первой четверти ХVII вв. против Брестской церковной унии
28.07.2025.
Заключение унии с Римом в 1595-1596 гг. привело к расколу прежде единой Восточной Церкви на белорусских и украинских землях. Та часть духовенства и верующих, которая не приняла унию (их называли «несоединенные», «дезуниты»), уже изначально подверглась мощному давлению и дискриминации со стороны светских и духовных властей Речи Посполитой. Последние считали противников объединения с Римской Церковью из числа восточных христиан «схизматиками», упорно не желавшими повиноваться своей законной иерархии. Православные же, не признавшие над собой верховную власть папы Римского и оказавшиеся в сложнейших условиях, утратившие значительное число храмов и монастырей, оставшиеся почти без епископов, пытались отстаивать свои права и возможности для дальнейшего существования в Речи Посполитой на заседаниях сеймиков и сеймов, в судах, порой силовым путем. Спустя время, нуждаясь в помощи и поддержке, они стали обращать взор в сторону соседней державы — православной России. Одним из инструментов защиты своих прав и интересов, разъяснения своей позиции и донесения ее до властей также выступали для православных Речи Посполитой полемические труды.
Следует сказать, что полемические сочинения pro et contra унии с Римской Церковью появились еще в период, предшествующий ее заключению. Их авторами были представители как Восточной, так и Латинской Церквей, например знаменитый иезуит Пётр Скарга. Но Брестская уния дала очень серьезный толчок для развития полемической литературы в последующий период, когда в кругах православных и униатских интеллектуалов разгорелась настоящая «война перьев».
Православные авторы в своих трудах критиковали католические вероучительные положения, доказывали, что уния с Римской Церковью и переход Киевской митрополии под власть римских понтификов были ошибкой, обосновывали каноничность Брестского Православного Собора 1596 г., правомерность восстановления иерархии в 1620 г. Свои взгляды православные полемисты подкрепляли разного рода аргументами: библейскими, патрологическими, историческими, каноническими.
Полемическая литература, вышедшая из-под пера православных авторов, уже неоднократно становилась предметом научного рассмотрения [Макарий Булгаков, 1996, 169–178, 226–229, 468–469; Карский, 1921, 184–209; Кароткі, 2005, 390; Морозова, 2010]. Однако, несмотря на обилие соответствующих исследований, вопрос о том, какие канонические аргументы выдвигались православной стороной против унии с Римом, прежде специально не ставился. В ходе участия в Барсовских чтениях в 2023 г. нами был озвучен доклад, посвященный каноническим доводам, выдвигаемым сторонниками унии в ее поддержку, и затем опубликована статья в журнале «Христианское чтение» [Веремеев, 2024]. Настоящая статья является определенным продолжением ранее поднятой проблематики и представляет собой попытку рассмотрения канонической аргументации православных.
Одним из первых полемических трактатов православных авторов, появившихся в изучаемую эпоху, был труд Герасима Смотрицкого1 «Ключ Царства Небесного». Г. Смотрицкий прямо заявлял, что Восточная Церковь, в отличие от Латинской, сохранила верность Правилам свв. Апостолов и решениям Вселенских Соборов, сравнивал ее с домом, построенным на семи столбах, т. е. на семи Вселенских Соборах. Одновременно он обвинял римских понтификов в отступлении от постановлений вышеназванных Соборов (Ключ Царства Небесного, 1887, 252). Эту точку зрения разделял и его сын, знаменитый Мелетий (Смотрицкий)2, в первый, православный период своей жизни (Obrona verificacjey, 1887, 347–348).
В фокусе внимания православных полемистов оказалась проблема церковного календаря. Г. Смотрицкий писал, что папа Римский Григорий XIII, перейдя на новый календарь, попрал тем самым правила Вселенских Соборов (Ключ Царства Небесного, 1887, 252). Впрочем, для Г. Смотрицкого это решение папы не было чем-то удивительным, ведь, с его точки зрения, Католическая Церковь отступила от истины еще во времена папы Формоза3 (т. е. в IХ в.) и стала с той поры «как лицо без носа» (Ключ Царства Небесного, 1887, 242).
Христофор Филалет4 в своем «Апокрисисе» подверг критике способ введения григорианского календаря в Католической Церкви. При этом он ссылался на решения Первого Никейского (325), а также Антиохийского (341) Соборов, запрещавшие изменять церковный календарь светским лицам и духовенству. По мнению автора «Апокрисиса», право вводить в церковную жизнь новый календарь принадлежало Собору, а не папе Римскому. Также Христофор Филалет писал, что каноны запрещают изменять даты праздников, в особенности Пасхи; он цитировал Константинопольский Собор 1582 г., который назвал григорианский календарь «вредным нововведением и латинской ересью» (Апокрисис, 1882, 1189–1190). Таким образом, православные полемисты демонстрировали приверженность юлианскому календарю, подкрепляя свою точку зрения в том числе и каноническими доводами.
Для униатов одним из самых важных аргументов в пользу необходимости Брестской унии, ее соответствия каноническому праву являлись решения Флорентийского Собора 1439 г., который они считали вселенским и на котором была провозглашена уния Восточной и Западной Церквей. С такой позиции Брестская уния выступала неким продолжением Флорентийской унии, ее дальнейшей реализацией в Речи Посполитой. Православная сторона, напротив, отрицала каноничность Флорентийского Собора и не относила его к числу вселенских. Показательно, что Клирик Острожский5 в своем «Ответе» униатскому митрополиту Ипатию Потею прямо называл Собор во Флоренции « листрикийским сонмищем » (Ответ, 1903, 412). Не признавал вышеназванный Собор вселенским и иером. Захария (Копыстенский)6 в своей «Палинодии» (Палинодия, 1878, 1120). Соответственно, аргументы униатской стороны, апеллировавшей к Флорентийскому Собору, для православных не имели никакого канонического значения.
Одним из краеугольных камней в униатской системе доказательств в поддержку объединения с Римской Церковью являлось признание католического учения о примате папы Римского. Признание римского понтифика земным главой христианской Церкви закономерно подразумевало необходимость пребывания в единстве и тáин-ственном общении с ним, т. е. в унии. Опровержению учения о папском примате посвятил значительную часть своего монументального полемического сочинения «Палинодия» иером. Захария (Копыстенский). В частности, он доказывал, что первенство пап в христианском мире, как учит Католическая Церковь, проистекает не из «Божьего права», а из обычного права и «людской ухвалы» (Палинодия, 1878, 515). Иеромонах Захария отмечал, что восточные патриархи обладают равной властью с папами Римскими, в подтверждение чего ссылался на 36-й канон VI Вселенского Собора (Палинодия, 1878, 670)7. Отметим, что подобным образом вышеназванный канон толковали и православные канонисты последующего времени, в частности известный канонист епископ Далматинско-Истрийский Никодим (Милаш), который писал, что епископы Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима «в отношении власти совершенно равны между собою» (Правила).
Иеромонах Захария (Копыстенский), помимо указания на 36-й канон VI Вселенского Собора, в доказательство того, что восточные патриархи обладают такой же властью, как и римские понтифики, ссылался на Кодекс Юстиниана, Номоканон, а также на 95-й канон VI Вселенского Собора (Палинодия, 1878, 1162). В целом, обоснованию прав восточных патриархов и опровержению католического понимания власти пап отведено много места в труде иером. Захарии (Копыстенского). По утверждению последнего, патриарх — это «Христов живой и одушевленный образ, делами и словами в себе воображающий правду» (Палинодия, 1878, 1151).
В «Палинодии» отрицалось право апелляции к римским понтификам христианского духовенства со всего мира. Таким правом, как утверждал иером. Захария, обладает только духовенство, принадлежащее к непосредственно подчиненным папе диоцезиям. Православный полемист ссылался при этом на 37-е правило Свв. Апостолов8, каноны 31 и 125 (в латинском варианте — 126) Карфагенского Собора, 6-й, 16-й и 50-й каноны Антиохийского Собора, 5-й канон I Вселенского Собора, 6-й канон II Константинопольского Собора, 8-й канон VI Вселенского Собора в Константинополе (Палинодия, 1878, 580)9. Тезис о том, что Римский папа не является высшим судьей для христиан, неоднократно постулируется в «Палинодии» (Палинодия, 1878, 626, 642).
Иеромонах Захария (Копыстенский) опровергал довод своих оппонентов, ссылавшихся на Сардикийский Собор (343–344), ряд правил которого предоставляет в случае споров между епископами право обращаться к папе Римскому для их разрешения. Для православного полемиста это не являлось убедительным доводом. Он писал, что Сардикийский Собор не был вселенским, Восточная Церковь его никогда таковым не считала, следовательно, решения, принятые в Сардике, распространяются лишь на Церковь Запада (Палинодия, 1878, 572–575).
Иеромонах Захария также утверждал, что для Восточной Церкви в Речи Посполитой высшей судебной инстанцией является Константинопольский патриарх. В доказательство своего тезиса он приводил целый ряд ка нонов: 9-й и 17-й каноны Халк идонского Собора10, 6-й канон Антиохийского
Собора11, ссылался на Номоканон. По мнению полемиста, после рассмотрения вопроса в Константинополе подавать апелляции в Рим нельзя: это, в частности, запрещает Номоканон, а также 123-я новелла Юстиниана12 (Палинодия, 1878, 607–608).
Автор «Палинодии» отрицал саму возможность подчинения Восточной Церкви на территории Речи Посполитой папам Римским. Он писал, что Русь в силу Божественного и апостольского права подлежит юрисдикции Константинополя. Божественное право, на его взгляд, проявилось в том, что Сам Господь повлиял на князя Владимира и тот крестился в Корсуни от епископов, направленных константинопольским патриархом. Апостольское право, согласно иером. Захарии (Копыстенскому), базируется на том обстоятельстве, что первая попытка крещения Руси состоялась при Константинопольском патриархе Фотии, именно он дал «россам» епископа (Палинодия, 1878, 1070–1072). В свою очередь папа Римский не получал от Бога такого права: «что Бог Папе в первотынах не дал, того с нарушением права Божьего и людского доставати не может» (Палинодия, 1878, 1072). Стремясь обосновать юрисдикцию Константинополя над Киевской митрополией, иером. Захария ссылался на 28-й канон Халкидонского (IV Вселенского) Собора13.
С иером. Захарией (Копыстенским) был солидарен и архиеп. Мелетий (Смотриц-кий), который также считал, что власть Константинопольского патриарха распространяется на Киевскую митрополию на основании 28-го канона Халкидонского Собора. Под «иноплеменниками», которые упоминаются в тексте вышеназванного канона, по мнению архиеп. Мелетия (Смотрицкого), подразумевались жители земель, впоследствии вошедших в состав Киевской митрополии (Verifikatia niewinności, 1887, 302).
В другом своем сочинении — «Оборона верификации», архиеп. Мелетий (Смот-рицкий) доказывал, что подчинение Киевской митрополии папе Римскому противоречит целому ряду канонических норм: 32-му Апостольскому правилу, 6-му канону I Вселенского Собора, 2-му и 4-му канонам II Вселенского Собора, 8-му канону III Вселенского Собора14 (Obrona verificacjey, 1887, 402).
Брестский Православный Собор, осудивший унию и ее сторонников, как известно, возглавлял протосинкелл Константинопольского патриарха архидиак. Никифор (Парасхес-Кантакузин)15. После Собора он был обвинен в шпионаже в пользу Османской империи, арестован и спустя время умер в заключении. Униатские полемисты, оспаривая каноничность Брестского Православного Собора 1596 г., делали акцент на том, что патр. Иеремия умер годом ранее (†1595), поэтому статус протосинкелла умершего патриарха, вдобавок не являвшегося епископом, представлялся им очень сомнительным.
В свою очередь, православные авторы в своих сочинениях стремились привести доводы в пользу того, что статус упомянутого протосинкелла не следует ставить под сомнение. Так, автор «Апокрисиса» доказывал легитимность архидиак. Никифора (Парасхес-Кантакузина), ссылаясь на грамоту 1592 г., данную тому Синодом Константинопольской Церкви. Эта грамота наделяла архидиак. Никифора широкими правами, что позволяло ему отстранить от кафедры как митр. Михаила (Рагозу), принявшего унию, так и других владык, а также исполнять обязанности патриарха в его отсутствие. В «Апокрисисе» было напечатано письмо Константинопольского патриарха Иеремии, в котором отмечалось, что архидиак. Никифор избран протосинкеллом с участием патриарха Александрии Мелетия (Пигаса) и представителей патриархов Антиохии и Иерусалима (Апокрисис, 1882, 1269). Эти доводы должны были убедить в том, что архидиак. Никифор (Парасхес-Кантакузин) являлся представителем всей Восточной Церкви на Брестском Соборе и обладал большими властными полномочиями. Отсюда следовало, что лишение вышеназванным Собором сана митр. Михаила (Рагозы) и владык — сторонников унии, было вполне законным по факту участия в нем патриаршего протосинкелла.
Автор «Апокрисиса» также высказал любопытную мысль, что право судить митрополита и владык имели не только иерархи, но и участвовавшие в работе Собора в Бресте люди более низкого церковного статуса и социального положения. Подтверждением тому для него являлись права, данные патр. Иеремией членам Виленского православного братства. Хотя не все участники Собора из числа мирян принадлежали к братству, но по факту своего участия они могли судить епископов (Апокрисис, 1882, 1269–1270). Христофор Филалет, судя по всему, сам был протестантом (см.: [Соболев, Флоря, 2003, 261]), поэтому в его аргументации сказывалось влияние широко распространявшегося в ту эпоху протестантизма с его идеей активной роли светских лиц в жизни Церкви.
Решение Брестского Православного Собора 1596 г. об отстранении от кафедр митрополита и епископов, принявших унию, не было для Христофора Филалета чем-то беспрецедентным. Он писал, что история христианства знает подобные случаи. По его подсчетам, на Вселенских и Поместных Соборах принимались решения о лишении кафедр двух патриархов Константинополя, семи пап Римских и одного епископа. В частности, Христофор Филалет привел следующий исторический факт: в 1080 г. Собор в Бриксене (ныне Брессаноне, Италия), созванный императором Священной Римской империи Генрихом IV, осудил папу Григория VII16 (Апокрисис, 1882, 1272).
Огромное значение для дальнейшего существования православия в Речи Посполитой имело восстановление православной иерархии, тайно совершенное Иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 г. в Киеве. Православные полемисты стремились доказать каноничность вышеназванных епископских хиротоний, а также повлиять на позицию короля и сейма, чтобы добиться легитимации православных архиереев со стороны властей Речи Посполитой.
Так, Мелетий (Смотрицкий), который сам был возведен патр. Феофаном в сан полоцкого архиепископа, в своем сочинении «Верификация невинности» утверждал, что участники Брестского униатского Собора 1596 г. на момент 1620 г. уже не имели отношения к Восточной Церкви. Еще в 1596 г. они были осуждены, отлучены от Церкви и преданы анафеме, в том числе и патриархом Александрийским Мелетием (Пигасом). Это означало, по мнению архиеп. Мелетия (Смотрицкого), что епископские кафедры, занятые владыками-униатами, в действительности были вакантными, пустовали, следовательно, их заняли рукоположенные патр. Феофаном новые православные владыки (Verifikatia niewinności, 1887, 308–312). Такое действие иерусалимского патриарха в сочинении архиеп. Мелетия (Смотрицкого) представало не только как вполне логичное, но даже и необходимое, соответствующее каноническому праву Восточной Церкви.
В свою очередь, право Иерусалимского патриарха Феофана рукополагать епископов для Киевской митрополии не вызывало у архиеп. Мелетия (Смотрицкого) никаких сомнений в силу того, что данное право патр. Феофана было подтверждено патриархом Константинополя (Verifikatia niewinności, 1887, 288).
Униатские епископы, по мнению архиеп. Мелетия (Смотрицкого), де-факто занимали церковные кафедры вопреки канонам. Он утверждал, что это доказывается 6-м каноном I Вселенского Собора, который устанавливает принципы церковного управления и, в частности, запрещает поставление епископов без разрешения митрополита. Архиепископ Мелетий (Смотрицкий) утверждал, что этот канон распространяется и на патриархов, в том числе и на патриарха Константинополя (Verifikatia niewinności, 1887, 308). В силу того, что униатские владыки занимали свои кафедры без согласия предстоятеля Константинопольской Церкви, их статус, по мысли архиеп. Мелетия (Смотрицкого), не являлся каноническим.
Иеромонах Захария (Копыстенский) утверждал также, что некоторые современные ему униатские владыки не могут занимать свои кафедры по причине канонических препятствий иного характера. Так, он писал в «Палинодии», что киевский униатский митрополит Ипатий Потей — человек «порочный», «в нестатку веры», был кальвинистом, затем стал «новокрещенцем». Ипатий Потей обвинялся и в принадлежности к иудаизму. Иеромонах Захария отмечал следующее: «Поведают многии, добре того сведомии, же и до старого закону склонился был и церемонии некоторыи заживати починал, а молитвы свои читанем книг старозаконных отправовал» (Палинодия, 1878, 1064). Православный полемист при этом указывал на 11-й канон VI Вселенского Собора, который, по его мнению, запрещает архиерею в таком случае занимать кафедру17. Известный византийский православный канонист Феодор Вальсамон, толкования которого, в частности, широко использовал иером. Захария (Копыстен-ский) при написании «Палинодии», трактуя 11-й канон, отмечал, что тот предписывает, «чтобы мы не имели никакого общения с иудеями» (Толкования).
Следует также отметить, что сам Ипатий Потей, не отрицая того, что в молодые годы являлся кальвинистом («евангеликом»), категорически возражал, что когда-либо принадлежал к «новокрещенцам» [Левицкий, 1885, 3]. Нет никаких подтверждений принадлежности Потея к иудеям.
В полемических сочинениях православных авторов рассматриваемого периода можно обнаружить не только отсылки к церковным канонам, но и апелляцию к акту Варшавской конфедерации 1573 г. (Konfederacja), который гарантировал религиозную терпимость, гражданские и политические права протестантской шляхты на территории Речи Посполитой, и который, по мнению православной стороны, нарушался. Христофор Филалет указывал на то обстоятельство, что под актом Варшавской конфедерации стоят подписи иерархов Латинской Церкви (краковский епископ Петр Мишковский и каменецкий епископ Вавжинец Гошлицкий). Этот факт, на его взгляд, свидетельствует о признании данной законодательной нормы Латинской Церковью Речи Посполитой. Уния же, по мнению Христофора Филалета, являлась нарушением акта Варшавской конфедерации, т. к. означала ликвидацию Восточной Церкви на территории Речи Посполитой и создание новой, униатской церкви. Заключение унии, с точки зрения православного полемиста, создавало опасный прецедент нарушения религиозных прав в государстве и создавало условия для абсолютного господства Латинской Церкви в будущем (Апокрисис, 1882, 1087–1088).
Смогли ли канонические доводы православной стороны переубедить кого-либо из лагеря их оппонентов — сторонников унии? Вопрос остается открытым. Известно, к примеру, что за литературной полемикой архиеп. Мелетия (Смотрицкого) с Иосифом Вельямином Рутским следила вся образованная элита Великого княжества Литовского, в нее включались и другие православные и униатские авторы (см.: [Лiсей-чыкаў, 2010, 33]). Вероятность того, что аргументы, приводимые архиеп. Мелетием (Смотрицким), Христофором Филалетом, иером. Захарией (Копыстенским) и другими, оказались для кого-то решающими, заставили пересмотреть свои прежние взгляды, вовсе не следует исключать. С другой стороны, сам архиеп. Мелетий (Смотрицкий), написавший блестящие труды в защиту православия, в 1627 г. принял унию и стал не менее яростно выступать в ее защиту, используя весь свой литературный талант.
Православные полемические сочинения и предлагаемые в них канонические доказательства (наряду с другими аргументами) могли оказывать влияние на общественное мнение, и в особенности на мнение элит, в пользу «несоединённых», могли способствовать формированию условий для последующего решения короля Владислава IV о легализации Православной Церкви в Речи Посполитой в 1632–1633 гг.
Заключение
На основании анализа полемических сочинений Герасима и Мелетия Смотрицких, Христофора Филалета, иером. Захарии (Копыстенского), Клирика Острожского можно заключить, что апелляция к церковным канонам выступала в православной полемике в качестве одного из важнейших аргументов против унии с Римской Церковью. Ссылаясь на Правила свв. апостолов, решения Вселенских и Поместных Соборов, Номоканон, новеллы Юстиниана, православные авторы писали о том, что Римская Церковь отступила от учения Вселенских Соборов, отрицали принадлежность к числу последних Собора 1439 г. во Флоренции, стремились доказать ошибочность католического учения о папском примате, опровергали, что римские понтифики обладают высшей судебно-апелляционной властью в Церкви. Утверждалось, что восточные патриархи имеют равные права с папами, а Русь в силу «Божественного» и «апостольского права» подлежит юрисдикции Константинополя. Много внимания было уделено доказательству каноничности Брестского Православного Собора 1596 г., осудившего унию, легитимности протосинкелла архидиак. Никифора (Парасхес-Кантакузина), возглавлявшего данный Собор, обоснованию того, что епископские хиротонии 1620 г. были совершены Иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 г. в соответствии с канонами Восточной Церкви.
Система канонической аргументации православных полемистов против Брестской унии является достаточно логичной, однако она не кажется абсолютно бесспорной. Так, если для иером. Захарии (Копыстенского) и архиеп. Мелетия (Смотрицкого) 28-й канон Халкидонского Собора служил доказательством юрисдикционной принадлежности Киевской митрополии Константинополю, то их оппоненты из числа униатов толковали текст этого канона по-другому и даже ссылались на него, чтобы обосновать необходимость унии (см.: [Веремеев, 2024, 153]). Каждая из сторон православно-униатской полемики находила в каноническом праве доказательства своей правоты. Решение вопроса о том, чья аргументация была более убедительной и находилась в большем соответствии с церковно-правовыми нормами, относится к прерогативам профессиональных канонистов, хотя наивно полагать, что православные и униатские или католические специалисты в данной области права когда-либо придут к общему мнению.
Рассмотренный же нами аспект еще раз показывает, что церковные каноны, несмотря на неизменность их формулировок, могут быть истолкованы представителями разных Церквей различным образом, в том числе в зависимости от конкретноисторических условий и поставленных целей; может отличаться также и практика их применения. На эти особенности уже неоднократно обращалось внимание в ходе работы Общества изучения церковного права имени Т. В. Барсова (Барсовского общества)18.