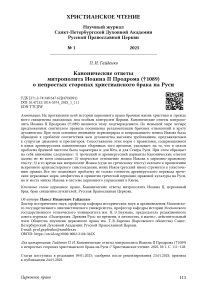Канонические ответы митрополита Иоанна II Продрома (†1089) о непростых сторонах христианского брака на Руси
Автор: Гайденко П.И.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
На протяжении всей истории церковного права брачная жизнь христиан и прежде всего священства находилась под особым контролем Церкви. Канонические ответы митрополита Иоанна II Продрома (†1089) являются тому подтверждением. По меньшей мере четыре предложенных святителем правила посвящены регламентации брачных отношений в кругу духовенства. При этом основное внимание первоиерарха и вопрошавшего мниха Иакова было обращено к проблеме соответствия жен духовенства высоким требованиям, предъявляемым к супругам диаконов и пресвитеров. Сопоставление этих норм с правилами, содержащимися в иных древнерусских канонических сборниках того времени, указывает на то, что в целом проблема брачной чистоты была характерна и для Юга, и для Севера Руси. При этом обращает на себя внимание следующее: 1) греческий и древнерусский варианты Канонических ответов далеко не во всем совпадают; 2) творческое отношение мниха Иакова к церковно-правовому тексту; 3) в то время как митрополит Иоанн (судя по греческому тексту) склонен к проявлению искреннего архипастырского снисхождения, мних Иаков (русский инок) стремится к ужесточению правил. Все это поднимает проблему не только точности древнерусского перевода греческих церковных норм, неофитства и принятия греческой церковно-правовой культуры на Руси, но и места мниха Иакова в системе церковного управления в Киеве.
Церковное право, канонические ответы митрополита иоанна ii, церковный брак, брак священнослужителей, русская православная церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/140309263
IDR: 140309263 | УДК: [271.2-74:348:347.62](470)(091 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_111
Текст научной статьи Канонические ответы митрополита Иоанна II Продрома (†1089) о непростых сторонах христианского брака на Руси
Христианский брак и внутрисемейные отношения, прежде всего отношения между супругами на Руси XI-XIII вв. неоднократно рассматривались в отечественной историографии. Однако едва ли данная большая тема может считаться исчерпанной, особенно тогда, когда возникает необходимость понять, какой была жизнь первых поколений древнерусских христиан и их пастырей. Источники крайне скупы на сообщения о приватной стороне их существования. Едва ли не единственными ее «свидетельствами» остаются канонические правила. Несомненно, вводя или защищая те или иные нормы христианской жизни, они касались неприглядных сторон повседневности. Поэтому возникает соблазн принять обстоятельства, отраженные в этих нормах, за доминирующую действительность, которая несомненно была сложнее, разнообразнее и не так неприглядна. И все же, принимая во внимание лапидарный характер первых древнерусских канонических сборников, логично допустить, что в них в основном прозвучали вопросы и ответы относительно тех затруднений духовнической практики, с которыми пастырям приходилось сталкиваться чаще всего. Указанное замечание в историографии было детально разобрано на примере ответов, данных на вопросы, заданные новгородскими клириками Кириком, Саввой и Ильей1. Что же касается Канонических ответов митрополита Иоанна II Продрома (^1089), предложенные в них нормы заслуживают самостоятельного отдельного рассмотрения.
Среди разнообразия вопросов, на которые посчитал необходимым ответить митр. Иоанн, четыре непосредственно либо посвящены, либо затрагивают некоторые особенности семейной жизни христиан Киева, включая и князей, и пастырей. Это правила 12, 13, 15 и 26.
Первое из названных правил рассматривает вопрос о том, как брачные отношения могут влиять на возможность достижения священства. Правило примечательно, поскольку рассматривает путь к священству как в иночестве, так и в браке:
Мужа отлучившася своего подружья, мнишьскаго ради житья, аще отлученая от него жена со инемь сочтаеться, не възбраняеться ему на иереиство прити: ни-чтоже бо съгреши; но иже се паче поиметь, сему възбранити ерейства, аще были мысли, ныне хочеть прияти (Канонические ответы, 1880, стб. 6–7).
Не менее примечательно следующее, 13-е правило, посвященное княжеским бракам, точнее бракам княжеских дочерей с инославными:
Иже дщерь благовернаго князя даяти за мужь во ину страну, идеже служать опреснокы и съквернояденью не отметаються, недостоино зело и неподобно пра-вовернымъ се творити своимъ детемъ сочтани[е]: божествный оуставъ и мирскыи законъ тояже веры благоверьство повелеваеть поимати (Канонические ответы, 1880, стб. 7).
15-е правило митр. Иоанна сложно по своей структуре и комплексу рассмотренных в нем аспектов жизни христиан. Это и совершение языческих ритуалов на священных местах, и изгнание своих жен с вступлением в брак с иными, и отказ от церковного благословения на супружество, и отказ от причастия, и даже пребывание под наказанием духовника.
И еже жруть бесомъ и болотомъ и кладяземъ, и иже поимаються, бе[зъ] благословенья счетаються, и жены отметаються, и свое жены пущають и прилепляються [инемъ], иже не приимають святыхъ таинъ ни единъю летомъ, аще не от отца духовнаго связани будуть ни причащатися, — и ты веси яве темъ всемъ чужимъ быти нашея веры, отвержени сборноя церкви. И всею силою потщися възбранити и направляти на правую веру: имеи к нимъ наказанье и поученье не единою, ни двождь, но различь[но], дóндеже уведають и разумеють воистину и добру научаться. Не покоряюще[же]ся и своея злобы не останучеся, чюжа имети от сбор-ныя церкви, и нашихъ заповедии не достоины и [не] причастны (Канонические ответы, 1880, стб. 7–8).
Однако самым необычным и интересным из названных правил видится 26-е, посвященное крайне болезненной и непростой проблеме: принятие священником своей жены, возвращенной из плена и пережившей насилие (сексуальное насилие). Данное правило находится в едином контексте со следующим за ним 27-м правилом, также рассматривающим неоднозначную проблему принятия в церковное общение лиц, отвергнувших христианство во время пленения. Весьма примечательно, что архиерей не только вводил нормы, но и пояснял их, наполняя «букву» церковно-правовой нормы христианским духом милости, понимания, сострадания и прощения:
Понеже полонять жены иереемь, и паки възвращенье имъ будеть, подобно поима-ти своимъ мужемъ и симъ приобщатися и не отметатися держанья ради инопле-менникъ оскверненья? От сего уведано буди оже д. ь - е и.е. правило рече святаго Василья: «нужею бывающая тли неповинни бывають». И вторыи законъ в Палеи пишеть: «аще отроковица на поли нужю прииметь [от] некого, и восстанеть и воз-опиеть и не боудеть кто от беды тоя избавляя, дева есть и по тли, занеже противи-ся и воспи». Аще она неповинна [и] от своихъ си чиста, како от иноплеменникъ осквернившася скверна есть? Чистую мужь свои отгнавъ, како не вмениться в лю-бодеицю еже изгнаньемь створи любодеицю свою? Луче ми мниться и не съгре-шенье приимати иже от плененья [иереемъ] своя жены, или прелюбодеици иже изгнанья ради творять (Канонические ответы, 1880, стб. 14–15).
Таким образом, вопросы брака и сексуальных отношений нашли свое отражение в целом ряде норм Канонических ответов митр. Иоанна, охватив широкий круг проблем семейных отношений как клириков, так и остальных христиан. Правда, здесь приходится заметить, что круг вопросов брака и внутрисемейной жизни в Канонических ответах и численно, и по охвату различных сторон жизни существенно меньше тех, которые прозвучали в «Вопрошании» Кирика Новгородца, Саввы и Ильи. Чем это можно объяснить?
Прежде всего, Канонические ответы существенно (в три раза) меньше созданного в Новгороде «Вопрошания». К тому же различие обнаруживается как в статусе вопрошаемых (мних Иаков обращался к митрополиту, главе церковной организации Руси, в то время как еп. Нифонт, которому докучал своими вопросами Кирик, при всей властности был лицом более доступным), так и в целях. Соглашаясь с совершенно обоснованным мнениями С. И. Смирнова и Р. Г. Пихои о том, что оба канонических сборника предназначались для руководства духовникам (см.: [Смирнов, 2004, 180–190; Пихоя, 2016, 42–55]), все же логично допустить, что создание таковых сборников, вероятно, было обусловлено и иными целями. Так, составление «Вопрошания», наиболее вероятно, было инициировано самим Кириком, архиепископским секретарем. Скорее всего, работая над каноническим сборником, Кирик намеревался укрепить влияние и власть новгородского архиерея над местным независимым духовенством, защищенным положением клириков при ктиторских храмах. Во всяком случае, история венчания в 1136 г. новгородского князя Святослава Ольговича «своими попы у святого Николы», в которой еп. Нифонт никак не мог повлиять на княжеское духовенство2, а также Устав церкви Ивана на Опоках, ограничивавший аппетиты архиереев при получении подарков с церкви3, хорошо демонстрируют непростую ситуацию в системе административно-канонического управления духовенством Новгорода в XI–XIII вв. При этом было важно предложить священникам некий единый церковно-правовой взгляд на нравы, царившие в Новгороде и его пригороде. В результате «Вопрошание» изобилует правилами и казусами, живописующими крайне трудную и, что немаловажно, лишенную какой-либо интимности неоднозначную жизнь новгородцев и их духовенства4. Что же касается мотивов создания Канонических ответов, то таковые видятся еще более сложными. Нельзя исключать того, что они, во-первых, являлись наставлением для митрополичьего хартофилакса при выполнении им своих обязанностей от имени русского первосвятителя и, во-вторых, подобно Правилам митр. Георгия, могли быть наставлением для будущего архиерея (см. об этом: [Артемов, Гайденко, 2021]. Все это нашло отражение как в вопросах, так и в полученных на них ответах.
Итак, как уже было отмечено, первое из названных правил посвящено проблеме соотношения сохранения чистоты брака человека, желающего принять иноческий образ, с возможностью быть рукоположенным. Весьма примечательно и ценно, что данное правило сохранилось и в русской, и в греческой версиях. Однако уже первое сопоставление древнерусской церковно-правовой нормы с греческим вариантом Канонических ответов обнаруживает существенное различие. Русский текст правила начинается с рассмотрения вопроса о допустимости принятия сана «мужем», разлучившимся со своей супругой «ради иноческого жития» в условиях, когда оставленная им супруга «с иным сочетается». Греческий вариант звучит иначе и ничего не говорит об иночестве: «Ανδρὸς δὲ ἀποζυγέντος τῆς ἰδιάς γυναικὸς διὰ τὴν πρὸς τὴν μοναδικὴν πολιτείαν μετέλευσιν, ἤ ἐὰν ὑποζυγεῖσα γυνὴ έτεροζυγῆ, οὐ χρὴ τὸν τοιοῦτον κωλύεσθαι εἰς ἱερωσύνην ἐλθεῖν οὐδὲν γὰρ οὗτος ἡμάρτηκεν τὸν γὰρ ταύτην λαμβάνοντα μᾶλλον χρὴ παντελῶς εἴργεσθαι τῆς ἱερωσύνης» (Отрывки греческого текста, 1873, 14).
Предложенные А. С. Павловым и А. Ю. Митрофановым переводы передают следующее содержание греческого варианта:
|
Если муж разведется со своею женою, или если замужняя женщина выйдет замуж за другого: то не должно препятствовать мужу получать священство: ибо он ничем не согрешил; напротив, кто возьмет таковую (т. е. разведшуюся со своим мужем), того следует совершенно устранять от священства (Отрывки греческого текста, 1873, 14). |
Если муж разведется со своей женой, или если замужняя женщина выйдет замуж за другого, то не следует препятствовать мужу получить священство, ибо он ничем не согрешил. Напротив, тот, кто женится на разведенной, того следует совершенно удалить от священства5. |
Таким образом, русский вариант, скорее всего, являвшийся переводом, несколько иначе передает смысл предложенного митрополитом предписания. Такая вольность перевода могла объясняться как ошибками самого книжника, из-под пера которого возник русский вариант Канонических ответов, так и особым отношением переводчиков, переписчиков и составителей церковно-правовых текстов и их сводов к своему труду, допускавшим возможность внесения в текст собственных уточнений и интерпретаций.
Очевидно, что затрагиваемый в греческом варианте аспект связан с возможностью рукоположения разведенного лица. По сути, речь идет о целибате, явлении, не особо поощряемом в русской канонической традиции. Особую остроту эта проблема приобрела в XVI в. в связи с ограничениями, какие налагались на вдовых священников, если те отказывались приносить монашеские обеты и удаляться в монастырь. Таким образом, в отношении неженатых, разведенных и вдовых священнослужителей имела место не всегда справедливая, но устойчивая предубежденность в их склонности к нарушению сексуального воздержания6. Однако во 2-й пол. XI в., судя по сформулированному митр. Иоанном правилу, ситуация была иной. Священство не было закрыто для разведенных лиц. Даже если бывшая жена вступала во второй брак, сам муж в этом случае «ничем не согрешал».
Причин столь снисходительного в сравнении с XVI-XVII вв. отношения к целибату могло быть несколько. Прежде всего есть все основания полагать, что в еписко-пиях мог иметь место своего рода дефицит духовенства из числа белого духовенства. К тому же целибат был обычным явлением в Византии, нормами и традициями которой руководствовался митр. Иоанн. Весьма примечательно, что канонические рекомендации другого киевского митрополита, Георгия, допускали возможность поставления в епископы «бельца»7. А это означает, что таковой мог быть либо целибат, либо женат, но с условием или вдовства, или развода, или удаления супруги ради принятия епископства. Так или иначе, «белец» не был иноком.
Что же касается развода, то таковой был вполне возможен. Главные причины были обусловлены проблемами нравственного облика возможных ставленников и их жен. Последнее обстоятельство могло иметь непреодолимый характер, если жену замечали в измене или же вступлении в брак не будучи девой. Единственным выходом из таковой ситуации становилось удаление от себя супруги, что требовало от священника известной жертвенности и жесткости, особенно если принять во внимание то, что в православии (в восточной христианской традиции) второй брак для пастыря представляется невозможным8. Недопустим брак и с разведенной, о чем в том числе говорит данное правило в греческом его варианте9. Более того, вступление священ- ника в интимные отношения вне брака было сурово наказуемо и влекло извержение из сана10. О том, насколько сложно в описанных условиях11 было найти достойных кандидатов в ставленники, можно судить по вопросам к еп. Нифонту12 и по рекомендациям, данным в Определениях Владимирского Собора относительно испытания-исповеди претендентов на священство:
Нъ хотящи поставлени быть, да испытають ихъ потонкоу, аще житие ихъ чисто изъбрящеть, девство съблюдъши, девицю по законоу приведъши, и законъномоу
-
10 В исследуемом контексте красноречив ответ, данный еп. Нифонтом Кирику, вероятно, рассчитывавшему на определенное снисхождение к согрешившим, о том, как быть, если священник совершит блуд: «Белец поп без жены, аще ся случит ему пасти единой токмо, или пьяну, или како? — Аще и мертвые, рече, воскрешай, не может попом быть, такоже и дьяконом». Правда, при всей своей строгости архиерей допускал в этом случае снисхождение в отношении женатых и холостых иподиаконов: «В подьяконьстве аще ти ся каеть, приими его, но иное емоу опитемьи нетоу, и не даи еже лишитися саноу, такоже и женатымъ». Правда, в случае если дело касалось не священника и не иподиакона, а обычного человека, которого рассматривали в качестве претендента для принятия сана, но оказавшегося в прежние годы излишне любвеобильным, еп. Нифонт не нашел, что ответить: «Аще кто холостъ боуда, створить блоудъ и от того ся детя родить, достоить ли поставити дыяякономъ? — Дивно, рече, сде внесено: аже „одиною“ створить, a от того детя боудеть, аже многажды и съ десятью?» (Вопросы Кирика, 1880, стб. 45–47). Аналогичная категоричность присутствует и в правилах митр. Георгия. Так, относительно соблудившего священника архипастырь высказался предельно ясно: «По(п) аще твори(т) блу(д). не пети ему до смрти в ризахъ» (Неведомых словес, 2004, 247). По сути, первосвятитель говорит о пожизненном запрещении священнику служить. С такою же категоричностью первоиерарх высказался и о впадающем в блуд ставленнике во диаконы или во пресвитеры: «Покаалникъ блу(д) твори(т). диакономъ не ставити потомъ» («Аще дьякъ по покаяньи блудъ створить не станеть попомъ»; «Аще хоще(т) по покаянии блоу(д) сътворити диакъ. не достоить ему стати попомъ») (Неведомых словес, 2004, 247). Правда, митр. Георгий рассмотрел случай, если приходится иметь дело с неподтверждаемыми слухами о согрешениях священника. В этом случае он предложил следующее правило: «Еще прозвитера видиши впа-дающа въ блу(д). или инии тии молвя(т). ты ему о т(ом) не за(з)ри. Аще хощеши комкати оу него яко ста его мнящи [варю: мня], а не грешна. аще ли обличится гре(х) его пре(д) митропо-лито(м), да обличи(т) и да аще ослушавше(с) литургисати начнеть, тогла от него не комкати» (Неведомых словес, 2004, 252). Описанная строгость вполне вписывается в требования канонов, восходящих к 25-му Апостольскому правилу: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудоде-янии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники» (Правила Православной Церкви, 1994а, 84–86). Правда, в случае еп. Нифонта в отношении иподиаконов проявляется определенное снисхождение, которое, впрочем, не согласуется с категоричностью древнего правила.
-
11 Современные канонические правила все так же строги к кандидатам в священство (см.: [Цыпин, 2009, 284–294]). Однако в Определениях Собора и первых русских вопрошаниях усматривается крайне непростая ситуация. Жизнь первых русских христиан никак не соответствовала высоким идеалам веры. И в этих условиях требования митрополитов к более строгому подбору ставленников оправданны тем более, что нет оснований говорить о недостатке желающих принять священство, что было отмечено еще Е. Е. Голубинским (см.: [Голубинский, 1997, 451–452]). Остроту имела проблема качества таковых претендентов. Вероятно, эту предельно непростую и даже в чем-то драматичную ситуацию можно объяснить особенностями быта, культурной бедностью повседневности и «физиологичностью» интересов подавляющей части населения, включая состоятельные слои, знать и элиты.
-
12 Примечательно, что в Кириковом «Вопрошании» они охватывают целый комплекс вопросов, призванных регламентировать интимную сферу жизни пастырей и их жен, от чистоты жизни которых во многом зависела дееспособность клириков: 77-й, 78-й, 79-й, 80-й, 81-й, 82-й, 83-й, 84-й ответы на вопросы Кирика, а также 17-й ответ на вопрос Саввы (Вопросы Кирика, 1880, стб. 45–47, 55–56). При этом ни в «Вопрошании», ни в Канонических ответах митр. Иоанна, ни в правилах митр. Георгия ни разу не поднимается вопрос о грамотности претендентов, их канонических знаниях и догматических представлениях. Практически все внимание уделено вопросам сексуальности.
снятию бывшю, аще грамотоу добре сведять; нъ и тоу скоро ихъ не поставляите, аще боудоуть не кощюньници, ни хыщницы, ни пьяници, ни ротници, ни свар-ливи. Потомъ подобаеть испытать ихъ о вещехъ греховныхъ, еда в блоудьстве со-домьстемь были боудоуть, ли съ скотиною, ли в роукоу съгрешение, или въ татбе, разве аще не детьскаго, ли преже поятия жены своея растьлить девство, ли съ многыми легалъ боудеть, или от cвоея жены законьныя блоудъ створилъ боудеть, а или въ лживе послушьстве былъ боудеть, или оубийство створилъ боудеть, волею или ноужею, или резовникъ, или челядь дроуча голодомъ и наготою, страдою насилье творя, или дани бегая, или чародеець. Аще кто от прежереченныхъ сихъ винъ хотя единою ятъ боудеть, таковый не можеть быть попъ, ни дыяконъ, ни причетникъ. Да кто свободенъ боудетъ от всехъ сихъ винъ пороучениемь отца духовьнаго, понеже и пороучиться.з҃. попъ инех съ прочими добрыми свидетели, да поставять ѝ [Определения Владимирского Собора, 1880, стб. 90–91].
Таким образом, требования, предъявленные Собором к кандидатам в священство, рисуют крайне неприглядную картину нравов и жизни Руси, а также весьма невысокий уровень требований к кандидатам в священство, ограниченный лишь вопросами целомудрия, телесной чистоты и элементарной нравственности. Что же касается вводимых митр. Иоанном норм, то греческий вариант правила был посвящен двум вопросам: во-первых, возможности рукоположения разведенного человека («мужа»), в том числе в случае, если прежняя супруга ставленника повторно выходила замуж, и, во-вторых, допустимости претендовать на священство человеку, женатому на разведенной. В первом случае архипастырь, в соответствии с канонами, дает абсолютно положительный ответ, снимающий какие-либо «подозрения» со ставленника, во втором, напротив, категорически запрещает претендовать на какую-либо степень священства.
Русский же перевод несколько изменяет начальный смысл наставления митрополита. Переводчик усложнил ситуацию. В его версии развод произошел по воле супруга «ради иноческого жития». Такое расставание в идеале должно было произойти по взаимному согласию, хотя, например, история пострига прп. Никоном Варлаама, являвшегося сыном боярина Иоанна, наглядно демонстрирует, что жизнь, как правило, оказывалась сложнее. Молодой человек был женат, и его решение принять иночество не встретило у отца, в доме которого пребывала супруга юноши, понимания. Только со временем боярин Иоанн смирился (Житие Феодосия Печерского, 1997, 368–375). При этом у мниха Иакова возник вопрос: может ли такой инок достичь священного сана, если его прежняя супруга вступит во второй брак? И здесь ответ митрополита вполне соответствует тому, как он звучит в греческом варианте.
Остается только понять, что стало причиной искажения греческой нормы: случайная ошибка переводчика или же намеренное вмешательство, объяснявшееся некоторой свободой, которой обладал составитель этого канонического свода не только при выборе вопросов, но и при их редактировании?
Не менее примечательно 13-е правило Канонических ответов, неодобрительно оценивающее привычку выдавать княжеских дочерей замуж в страны, «идеже слу-жать опреснокы и съквернояденью не отметаються». Правило представляет собой не столько запрет, сколько архипастырское назидание:
«недостоино зело и неподобно правовернымъ се творити своимъ детемъ», поскольку «божествный оуставъ и мирскыи законъ тояже веры благоверьство пове-леваеть поимати».
Исследователями многократно высказывалось мнение, что появление данного предписания, более всего напоминавшего не правило, а назидательный призыв, скорее всего, объяснялось активной брачной политикой русских князей в Западной
Европе. «Опресноки» и «скверноядение» были грехом латинян, христиан западного обряда13. Такими они, их пища и обычаи еды представали в текстах Древней Руси XI-XII вв., например в Послании прп. Феодосия Печерского к князю Изяславу14. Такими они и их трапеза останутся в представлениях византийцев и в последующем (см.: [Охлупина, 2022, 321-322]). При этом основным адресатом этого правила, вероятнее всего, необходимо считать кн. Всеволода Ярославича, чьи дочери были замужем за европейскими монархами. Впрочем, подобные браки связывали с Европой и других Ярославичей и их потомков.
Конечно, митрополит имел в виду брачные союзы Руси с домами латинской Европы. Но едва ли его мнение было воспринято современниками в качестве нормы. Не стало оно руководством к действию и для князей последующих XV–XVI вв., когда браки многочисленных ветвей Рюриковичей с инославными невестами в подавляющем большинстве случаев не встречали церковного сопротивления. Тем более, что история самой Византия знала немало подобных союзов. Очевидно, что позиция митрополита, скорее всего, отражала дипломатические интересы Византии рассматриваемого периода. Не более того. Правда, история Пскова знает пример неприятия брачного союза с представительницей латинской Европы. Под 1210 г. Псковская летопись упоминает изгнание кн. Владимира Мстиславича Торопецкого, не поясняя, почему это было сделано (Псковские летописи, 2000, 77). Но о произошедшем более подробно сообщил в своей Хронике Генрих Латвийский, рассказавший, что горожане так поступили из-за того, что княжеская дочь вышла замуж за брата рижского епископа:
После их отъезда русские во Пскове возмутились против своего короля Владимира, потому что он отдал дочь свою, замуж за брата епископа рижского, и изгнали его изгнание из города со всей дружиной. Он бежал к королю полоцкому, но мало нашел у него утешения и отправился со своими людьми в Ригу, где и был с почетом принят зятем своим и дружиной епископа [Генрих Латвийский, 1938, 151].
Акцент на дочерях тоже естественен. Именно княжны, а не княжичи ради брака с представителями иных правящих домов или родов уезжали на чужбину. Истории не очень счастливого брака кн. Юрия, сына кн. Андрея Юрьевича Боголюбского, с царицей Тамарой, сопровождавшегося его отбытием в Грузию, и малоуспешный союз кн. Романа Даниловича, сына кн. Даниила Галицкого, с Гертрудой Бабенберг, отмеченный переездом молодого князя в Вену (1250-е гг.), — немногие примеры того, как княжичи покидали свои дома и переезжали во владения невест. Именно поэтому данные случаи для своего времени обладали чертами исключительности, а не нормы. Что же касается приведенных примеров, то оба брачных союза оказались неудачными для всех сторон задуманных брачно-династических проектов.
Тем не менее в целом браки русских князей и русской знати с византийцами и европейцами (см. об этом: [Толочко, 2013]) и даже с правителями Степи (см.: [Гагин, 2009; Гагин, 2015; Селезнев, 2019]) являлись своего рода «повседневностью» для княжеского двора. Правда, таковые союзы безусловно должны были закрепляться религиозной церемонией. И если брак совершался с инославным лицом, возникавшие при этом допущения были простительны и допустимы для женской, но никак не для мужской стороны. Так что, невзирая на умолчание русских летописей о большинстве браков с европейцами, подобные «межконфессиональные» союзы в роду Рюриковичей были совершенно обычным явлением. Впрочем, необходимо принять во внимание одно важное обстоятельство. Митрополит Иоанн неодобрительно высказался о выдаче замуж дочерей, но не о принятии инославных невест. Вероятно, это объяснялось тем, что таковой союз предполагал обращение инославной супруги в православие или же по меньшей мере сохранение в православии рожденных от нее детей, как это было в случае многострадальной Гертруды, супруги кн. Изяслава Ярославича, и ее сына Ярополка Изяславича15.
Наконец, в русском переводе обычно аккуратный в высказывании рекомендаций первосвятитель обосновал свое мнение туманной и лишенной ясных указаний на конкретные канонические правила и имперские законы отсылкой на «божествный оуставъ и мирскыи законъ». Однако подобных запретов в корпусе канонических норм нет.
Примечательно, что тон греческого варианта этого правила несколько иной, чем тот, который присутствует в русском переводе. Он обладает существенно большей ясностью и отсылает не к правилам и законам, а к духовническому праву митрополита накладывать епитимии и вразумлять совершающих опрометчивые поступки, по сути, за непослушание, скрывающееся за словами о «церковной дисциплине»:
Недостойно и весьма неприлично выдавать дочерей благороднейшего архонта (князя) замуж в земли народов, причащающихся опресноками. Ибо он, Божией милостью благочестивый и православнейший [архонт (князь)], подвергается наказаниям церковной дисциплины за подобные браки своих детей16.
В то же время, как бы ни были важны княжеские браки, большую проблему представляли брачные союзы и сопровождавшие их празднества в нижних по отношению к княжескому двору и его христианизированному окружению слоях населения. Здесь по-прежнему существовали обычаи, которые не только в христианском контексте, но и с позиций норм Правды Русской были неприемлемы. Именно на них были обращены суровые угрозы 15-го правила митр. Иоанна. Принимая во внимание, что подобные проблемы нашли свое отражение в новгородском «Вопрошании» Кирика17, «Уставе князя Ярослава о церковных судах» и в ряде наставлений18, можно заключить, что присутствующий в суждениях киевского архиерея обличительный тон вполне соответствовал масштабу проблемы. Правда, и здесь возникает затруднение, характерное и для других правил святителя, — несоответствие текстов Канонических ответов в их русском и греческом вариантах19.
Перевод этих норм, сделанный А. Ю. Митрофановым, позволяет увидеть ряд существенных различий:
Ты и сам знаешь, что оставляющие своих жен и совокупляющиеся с другими женщинами, а также и те [люди], которые ни разу в год не причащаются святых тайн, явно чужды нашей непорочной веры и отсечены от кафолической церкви. И постарайся всеми силами исправить их и обратить к более благочестивому и благоприличному (образу жизни), убеждай их и поучай не единожды или дважды, но часто и различными способами до тех пор, пока они, раскаявшись, не познают истины и не возвратятся на добрый путь. Тех же [людей], которые упорствуют и не оставляют своей злобы, считай чуждыми церкви и недостойными и непричастными нашим догматам20.
В греческом варианте хорошо видно, что правило имеет адресный характер и обращено непосредственно к мниху Иакову, который хорошо знаком с ситуацией, как лицо, вероятно, исполнявшее духовнические и секретарские обязанности, допускавшие его участие в святительском суде над провинившимися христианами, или, возможно, лицо, имевшее право выносить решение о согрешивших от имени митрополита21.
Правило рисует крайне неприглядную картину предельно свободного сексуального поведения и безответственного отношения к христианскому браку местного населения: оставление своих жен, сожительство с иными женщинами ради «совокупления», нежелание причащаться хотя бы раз в год. Все это, по мысли первосвятителя, «отсекало» распутников от кафолической веры, т. е. от Церкви22. Заслуживает внимания и то, что митрополит призывает мниха Иакова постоянно поучать согрешающих, приводить их к раскаянию и возвращать к благочестивой жизни. Что же касается «по злобе» упорствующих, то таких архиерей предлагает считать чуждыми Церкви и ее учению. При этом митрополит ни разу не упоминает о каких-либо наказаниях, что уже само по себе примечательно23.
Древнерусский вариант несколько иначе расставляет акценты, наполняя правило новыми элементами, которые отсутствуют в греческом оригинале: местами и обрядами языческих жертвоприношений, наказанием от духовного отца24. Особо акцентируется внимание на сексуальной стороне отношений согрешающих, их отказе от церковного благословения на брак.
Примечательно и иное. В греческом тексте архиерей призывает терпеливо вразумлять и убеждать виновных, допуская снисхождение к упорствующим. Пастырь должен объяснить человеку, что, поступая так, тот становится чуждым Церкви, вере и непричастным догматам. Призыв митрополита лишен какой-либо агрессии и напора.
В древнерусском переводе, напротив, внимание сосредоточено на неподчинении грешника воле пастыря. Христианская норма подается иначе — как волевой императив, приобретает жесткий и даже повелительный характер. Согрешающий не только противится истине, но и не покоряется тому, кто ему говорит о ней. А значит, таковые «нашихъ заповедии не достоины». К тому же правило митрополита предельно конкретно: оно рассматривает ограниченный круг проблем (супружеские измены мужа); в словах архипастыря присутствуют милосердие и предельная снисходительность к человеческой слабости. У мниха Иакова текст прочитывается иначе. Как уже говорилось выше, в правило, помимо измен, включены языческие жертвоприношения (двоеверие) и непослушание. Текст полон властных и категорических формулировок, стремящихся расширить сферу вмешательства Церкви и рассматривать грешника как упорного и недостойного преступника.
Еще одна грань семейной жизни духовенства открывается в 26-м ответе русского первосвятителя. Данное им правило посвящено крайне непростой проблеме — проблеме возвращения и принятия в священническую среду вернувшейся из плена попадьи, подвергшейся насилию. Действительно, как уже говорилось, если жена священника или диакона была уличена в сексуальной измене, клирик был обязан либо расстаться с супругой, что позволяло ему продолжить свое служение, либо, оставшись с ней, оказаться под запретом совершать служение. Появление данного правила во всех смыслах примечательно, поскольку указывает, что прозвучавшая в ответе проблема существовала. Древнерусские тексты действительно фиксируют случаи попадания в плен монашествующих, как, например, об этом сообщает Печерский патерик в рассказах о прп. Евстратии Постнике и Никоне Многострадальном; в руки язычников попал прп. Кукша, «пленником» назван и прп. Моисей Угрин (Киево-Печерский патерик, 1997, 366-379). Однако, как показывает данное правило, от пленения не были защищены и семьи пастырей. При том что поведение жен священнослужителей далеко не всегда являло миру образцы добродетельной христианской жизни, в среде женатого духовенства встречались и примеры настоящей любви (см. об этом: [Гайденко, 2018]).
Митрополит в своем правиле фактически научает духовенство различать грех и результат насилия как невинного страдания. Поясняя свою позицию, он обращается к правилам свт. Василия Великого и нормам Второзакония. Впрочем, использованные киевским митрополитом правила свт. Василия нуждаются в пояснении. 4-е и 9-е правила действительно поднимают проблему прелюбодейства женщин, что могло иметь для священнослужителя необратимые последствия. Однако 10-е правило посвящено клятвам и осуждает неразумное следование таковым, если это становится напрасным препятствием к принятию священства. Поэтому логично предположить, что данное правило было распространено митрополитом не на пастырей, а на диаконов, готовившихся к принятию иерейского сана, и ставленников, желавших только ступить на путь служения. Именно они оказывались в случае насилия над их женами в сложной ситуации, и именно на них, скорее всего, русский первосвятитель распространил эту норму, открывая возможность для дальнейших хиротоний.
Но более всего прямолинейно в своих смыслах обращение митр. Иоанна к нормам Второзакония: «аще отроковица на поли нужю приимет [от] некого, и восстанет и возопиет и не будет кто от беды тоя избавляя, дева есть и по тли, занеже противися и воспи». Здесь архипастырь предельно кратко по форме и предельно точно по идейному содержанию, как на это обратил еще А. С. Павлов, передает библейскую норму, которая, действительно, примечательна:
Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его; ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее (Втор 22:25–27).
В результате насилие над женой клирика в плену не вменялось в грех ни ей, ни ее супругу после ее возвращения в семью.
Отчасти к этому правилу примыкает следующий, 27-й ответ о возвращавшихся или бежавших из плена. В случае, если вернувшиеся домой, находясь в плену, отрекались от «правоверства», то митрополит установил принимать таковых через помазание миром. Сохранившие же веру обязаны были подойти под очистительную молитву. Потребность в ней могла объясняться тем, что даже питание с иноверцем воспринималось как грех, хотя в данном случае и невольный. Однако милосердное принятие отрекшихся от веры, без вменения таковым какой-либо вины (о ней ничего не говорится), заслуживает внимания. Церковные правила предельно жестко регламентируют таковое падение как отступничество. Такая категоричность присутствует и в правилах сщмч. Петра Александрийского (Петр Александрийский, 2024) и в 73-м25 и 81-м26 правилах свт. Василия Великого. И все же митр. Иоанн демонстрирует величайшее милосердие, опиравшееся, скорее всего, на понимание тяжести жизни в плену и слабости в условиях русских реалий христианской жизни среди местного населения.
Заключение
Таким образом, Канонические ответы митр. Иоанна в области семейных отношений в среде клириков не только демонстрируют предельно аккуратное следование церковно-правовым нормам Византии, но и — что особенно важно! — отличаются предельной снисходительностью. Сопоставление правил митр. Иоанна с иными каноническими сборниками исследуемого периода вполне наглядно демонстрирует единство как для Юга, так и для Севера Руси проблем, касающихся вопросов рекрутирования духовенства, внутрисемейной этики, богословской и канонической грамотности священства и нравственности членов священнических семей.
Тем не менее, как показывают греческий и древнерусский варианты рассмотренных правил, представление о канонической норме и христианском милосердии у митр. Иоанна и мниха Иакова различались. В то время как митрополит постоянно обращается к духу христианских норм, мних Иаков с ревностью неофита стремится к ужесточению требований. Однако эта сторона церковной жизни заслуживает отдельного рассмотрения.
* * *
Автор выражает свою искреннюю признательность С. Ф. Веремееву и Ф. Д. Подберезкину за помощь и советы, оказанные ими при подготовке статьи.