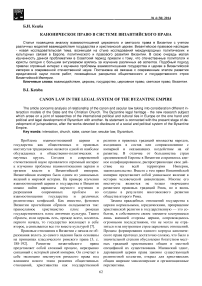Каноническое право в системе византийского права
Автор: Кецба Б.И.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (38), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу взаимоотношений церковного и светского права в Византии с учетом различных моделей взаимодействия государства и христианской церкви. Византийское правовое наследие - новая исследовательская тема, возникшая на стыке исследований международных политических и культурных связей в Европе, политического и правового развития Византии. В свою очередь малая изученность данной проблематики в Советский период привели к тому, что отечественные политологи и юристы сегодня с большим энтузиазмом взялись за изучение различных её аспектов. Подобный подход привлек огромный интерес к изучению проблемы взаимоотношения государства и церкви в Византийской империи в современной отечественной науке. Постановка её связана с современным этапом развития юридической науки после работ, посвящённых раскрытию общественного и государственного строя Византийской Империи.
Взаимодействие, государство, церковное право, светское право, византия
Короткий адрес: https://sciup.org/142233700
IDR: 142233700
Текст научной статьи Каноническое право в системе византийского права
Проблема взаимоотношений церкви и государства как общественных и правовых институтов традиционно является одной из наиболее обсуждаемых в общественно-политических и научных кругах. Сегодня в современной отечественной науке проявляется огромный интерес к изучению проблемы взаимоотношения церкви и органов власти в Византийской империи. Византийская империя была одним из уникальных явлений в мировой истории. На примере изучения взаимоотношений церкви и государства в Византии можно найти варианты научного изучения и разрешения современных проблем во взаимоотношении государства и различных религиозных конфессий. Как известно, феномен Византии простейшим образом складывается так: православное христианство плюс римская государственность плюс античная культура. Таким образом, если церковь есть, прежде всего, носитель первого начала, то государство воплощает в себе второе, а связывается все это вместе культурой [7].
Правовые отношения в Византии с начала ее образования вплоть до самого падения были основаны на принципах классического римского права [3, с. 188-192]. Развитие византийского права представляет собой сложный процесс, неразрывно связанный с историей самой империи. Он сочетает в себе эволюцию институтов римского права под влиянием нового этапа развития общественных отношений, христианства как государственной религии и правовых традиций множества народов, входивших в состав или соприкосновение с империей и оказывавших воздействие на её развитие. В отличие от большинства стран средневековой Европы в Византии сохранялось единое кодифицированное, распространяющее свое действие на всей территории Империи, законодательство. Вместе с тем право Византийской империи представляет собой уникальное явление в истории человеческой цивилизации. Многие его институты являются не только творческим развитием правовых традиций Рима, но и вновь созданы в результате многовекового развития общества второго Рима.
Замена враждебных отношений государства к церкви нормальными, юридическими, превращение христианской религии в государственную — это событие, в собственном своем элементе коснувшееся лишь внешней стороны церкви, сопровождалось огромными последствиями, что не могло не отразиться и на внутреннем строе церковных отношений. Процесс формирования единого корпуса канонического права протекал достаточно сложно, что было в значительной степени обусловлено богатством местных традиций христианских общин и местной спецификой их существования. Миланский эдикт, даровавший церкви права законно существующей религиозной коллегии, открыл для христианских общин широкие миссионерские и организационные перспективы.

Церковь должна была бы после ее признания естественно занять то место в Византийской империи, которое занимало jus sacrum (священное, религиозное право) в языческом Римском государстве. Христианство не пошло на это. Новая религия не склонилась перед государством и боялась потерять свою независимость во внутри церковных делах. Константин Великий отказался от права законодательства в делах культа. Когда донатисты апеллировали к нему на епископский суд, то он сказал: «Какая безумная дерзость. Они предметы небесные превращают в земные, апеллируют ко мне, как будто дело касается гражданских дел». Константин отделял дела церковные от дел гражданских и первых не подчинял государственному закону. Отцам, не присутствовавшим на Никейском Соборе, он писал об его постановлениях: «Устроенное по Боговдохновенному решению стольких и таких святых епископов с радостью примите, как Божественную заповедь, ибо все, что постановлено на Святых Соборах епископов, должно быть приписано Божественной воле» [9].
Собор для Константина был высшей церковной инстанцией, которая может судить самого императора. он не вмешивался во внутренние дела Церкви; сами государственные законы он преобразовывал по возможности в духе Церкви (закон о родстве, о гладиаторах, боях и т. д.). Если сам Константин на практике не всегда оставался верен своей теории и порывался свою волю поставить над каноном, то на дальнейшем протяжении истории Византии церковь постоянно отражает атаку императорских покушений на ту систему церковногосударственных отношений, которая была санкционирована святыми отцами Церкви.
Значение мероприятий Константина в пользу христианства и общая оценка его религиозной политики могут быть рассмотрены с разных сторон. С политической точки зрения выгоды союза с христианством за время правления Константина еще не стали очевидными, и даже вмешательство в дела церкви вполне вписывалось в рамки традиционных императорских обязанностей. А с точки зрения христианской церкви эти меры, несомненно, могут считаться подлинной революцией и поворотным пунктом в истории. Христиане не только получили императорское покровительство, но, помимо этого, христианство вступило в принципиально новый союз с римским государством, в котором императорская власть способствовала обеспечению единства церкви и открывала целую эпоху христианизации Римской империи [9].
В византийском мире Церковь и государство виделись как два столпа общества, его душа и тело. Об этом писал в IV веке церковный историк Евсевий, говоря, что христианская Римская империя есть земное отражение Царствия небесного. Как есть один Бог на небесах, так и император может быть только один. Император есть видимый глава и Церкви, и государства, ибо они независимы в силу разграничения функций. Церковь и царство (государство) суть два столпа одного здания — такова основная византийская идея. Понимание империи как церковно-государственного тела с двумя главами — Вселенским Патриархом и Вселенским императором — являлось определяющим фактором в мировоззрении византийцев. Они не сомневались, что тело это должно в конечном итоге объять весь православный мир или, точнее, весь мир, который сделается православным, и Вселенский император с Вселенским Патриархом, в конце концов, займут подобающие им места правителей христиан во всем мире. Как человек создан по образу и подобию Божию, так и царство человека на земле было создано по образу Царства Небесного. Как Бог правит на небесах и на земле, так и император, созданный по Его образу, должен править своим царством и исполнять Его заповеди. Да, мир и все, существующее в нем, были отравлены грехом, но Христос, искупивший человека, искупил и Империю. Конечно, Царство Божие недостижимо в этом мире. Но если Империя может быть его прообразом, если император с его министрами и советниками могут быть изображением Бога с Его ангелами, архангелами и святыми, то и жизнь на земле может сделаться наилучшей подготовкой к подлинной реальности — жизни на небесах [4, с. 52].
По мысли многих святых отцов, государство и церковь считались институтами богоустановленными. Святой Ириней Лионский, писал: «поелику человек, отступивший от Бога, дошел до такого неистовства, что почитал своего единокровного за врага и бесстрашно предавался всякого рода убийству, человекоубийству и жадности, то Бог наложил на него человеческий страх, чтобы люди, подчиненные человеческой власти и связанные законом, достигали до некоторой степени справедливости и взаимно сдерживали себя. Земное правительство установлено Богом для пользы народов, а не диаволом» [11, с. 645].
Стало быть, христиане были вполне готовы повиноваться любому императору, раз сама Империя — вещь Богом данная. Христианство никогда и нигде не подвергает сомнению сам монархический принцип, хотя бы речь шла о нечестивых царях или поработителях. Хотя здесь надо заметить, что Церковь, как ветхозаветная, так и новозаветная, четко различала принцип монархической власти от ее содержания. Так, тому же Навуходоносору (или Августу) подчиняться надо. Но он не водитель народа Божия, а язычник, а

потому не обладает священническим достоинством, не помазанник Божий, но царь «народов иных». Для того чтобы он стал истинным царем, необходимо личное (и, разумеется, публичное) исповедание веры в Бога. Более того, христиане суть наиболее послушные граждане в государстве, ибо они знают, что даже антихристианская власть, даже император-язычник терпимы, пока они законны. Именно принимая силу закона, христиане спокойно шли на мученическую смерть во имя Христа и писали юридические апологии в защиту своей веры, ведь закон дается монархом.
О почитании богоустановленности царской власти известны многие свидетельства. Так в жизнеописании святого мученика Арефы встречается рассказ о христианах, осажденных неверным царем Дунааном, которые соглашались открыть ему ворота города, говоря: «Мы христиане, научихомся от Святых Писаний повиноваться царю и покорятся властем». Дунаан войдя в город, не исполнил обещания не причинять зла и стал мучить христиан. Тогда одна блаженная жена стала ему говорить, что «подобаше тебе, царю, почтить Того, Иже тебе даде власть и ту порфиру, и ту диадиму… яко Сын Божий и Бог; ты же неблагодарен явился за таковое благодеяние Его и дерзновенным языком злословиши Благодетеля твоего» [13].
Византийские императоры, рассматривали свое царство не как продолжение традиций древнеримских или даже эллинских, хотя титулы византийских императоров, такие как
«благочестивейший», «правдолюбивый» и многие другие имели чисто эллинское происхождение, но как прямую аналогию с ветхозаветной иудейской монархией. Власть византийского императора в IV – VII веках не была, однако, произвольной. При всей широте полномочий императора она умерялась необходимостью следовать «общим законам» империи и особенно отсутствием принципа наследственности престола. Новый византийский император избирался сенатом, «народом Константинополя» и армией, роль которой в избрании императора Византии была не столь существенной. А политическая роль константинопольского сената, ослабшая еще в конце VII века, окончательно исчезает императорским указом конца IX века, лишившим сенат права участия в законодательстве империи.
Единственной крупной политической силой на всем протяжении Византийской истории остается православная церковь. Ее авторитет и влияние с течением времени все больше укреплялся. В частности, возрастает роль главы церкви, константинопольского патриарха, в общественнополитической жизни Византии. Патриархи нередко становились регентами малолетних императоров и непосредственно вмешивались в политическую 64
борьбу за власть, пользуясь тем, что единственной легитимной процедурой «восхождение на царство», становится с VII века венчание (помазание) императора патриархом в храме Святой Софии. Однако и в это время византийской церкви не удалось добиться независимости от императорской власти. Император сохранил право выбирать патриарха из трех кандидатов, рекомендованных церковными иерархами, и низлагать неугодного патриарха.
Европейские исследователи считают, что византийские императоры начали короноваться патриархами с середины V в. Однако только в XI в. среди некоторых канонистов (например, патриарх Алексий Студит) можно найти мнение, что законность императоров основывается на этом короновании [10, с. 369-370]. Но все же патриархи назначались императорами, идея Божественного призвания и назначения которых была аксиомой, и древняя римская традиция провозглашения нового императора армией и Сенатом продолжала оставаться главным критерием их вступления в должность. Коронование всего лишь санкционировало de facto провозглашенного императора.
По мнению русского правоведа и канониста Н.С. Суворова отождествление церкви с духовной иерархией и императора с государством с противопоставлением этих институтов друг другу является ошибочным. В Византийской империи никогда не было двух различных видов власти, подобное разделение могло иметь место только на начальном этапе развития, пока сам Константин Великий ещё не принадлежал церкви. Ученый исходит из того, что римское государство, сообразно со своими традициями, не могло допустить существование какого-либо общественного объединения, живущего по своим собственным законам. Следовательно, с принятием христианства государственной религией, нормы христианства должны были получить исключительную силу в государстве, такую же, какую ранее имело язычество. Ни в одном законодательном документе нет и упоминания о двух правительственных властях, одной церковной и другой государственной. Власть только одна и ей принадлежит забота о священстве, которому собственно приписывается не власть, а попечение об угождению Богу [12, с. 32]. Однако с канонической точки зрения, широкие права императора в церковном управлении только тогда были обоснованы, когда были делегированы ему самой церковью.
Таким образом, император обязывался «действовать в христианском духе» защищая церковь в проводимой им политике. Очень многие византологи XIX в. придерживались мнения, что церковь стоит в прямом подчинении власти государственной. В качестве аргумента приводили мнение
святого Матфея Власатаря, что законным вселенским и поместным собором может быть только собор, созванный по велению императора. Но здесь интересна точка зрения Иоанна Златоуста, который приводит примеры соборов, созванные императорами-арианами и отвергнутые вселенской церковью как разбойничьи. А святитель Григорий Богослов говорил царю: «Закон Христа подчиняет вас нашей власти и нашему суду. Ибо и мы господствуем, и наша власть выше вашей».
IV Вселенский Собор постановил: «Никакой прагматический указ, противный канонам, не должен иметь силы; должны преимуществовать каноны отцов» [8, с. 81-92]. Эта резолюция Собора была принята для государства и императором Mapкиaном: «Мы лишаем силы и твердости все прагматические указы, противоречащие канонам, изданные из соображений фаворитизма или честолюбия» [6].
По смыслу постановления IV Вселенского Собора воля императора не имеет для Церкви обязательного значения. Лишь сама Церковь может придать императорскому постановлению силу канона. Императорская практика неудачного вмешательства в вопросы веры и попытки издавать законы не согласные с догматами или открытая поддержка императоров еретических партий, приводило духовную иерархию пересмотреть принцип императорского повеления в делах церкви.
Пожалуй, к действительно страшным последствиям могло привести императора только отступление от Православия. Примеров в истории много: и Юлиан Отступник, и арианин Валент, и императоры-иконоборцы, и императоры-униаты. В подобной ситуации все решали конкретные исторические обстоятельства. Юлиан, например, был фактически предан проклятию, в отношении Валента мнения св. отцов и летописцев различны (у него были несомненные военные заслуги и погиб он в бою за империю). Совместное действие церкви и государства, фактически выражавшееся в некоторой зависимости первой от последнего, есть одно следствие провозглашения христианской религии государственной. Другой стороной этой перемены является известная сумма прав и привилегий, усвоенных церкви государством и облегчавших для нее достижение ее целей. Были права исключительные, и были права, образовавшиеся из того положения, которое заняла христианская религия в тогда еще языческом государстве. Привилегии, данные христианской церкви, заключались в усвоении христианами прав, которыми они должны были пользоваться.
С момента принятия Христианства у Церкви появляются широкие полномочия и правовые возможности. Право приобретения имущества церковью посредством покупки не подлежало сомнению. Важным источником обогащения христианских церквей были богатые дары из государственной казны. Сами императоры подавали пример благотворительности в пользу церкви. После Никейского собора император Константин сделал распоряжение, чтобы правители провинций доставляли в каждом году известное количество хлеба на содержание клира, вдов и сирот. Благодаря этим пожертвованиям, материальное положение христианских церквей, в общем, было весьма хорошо обеспечено. В общей сложности поземельные владения церкви разрослись до того, что занимали 1/10 часть всей государственной территории [2, с. 45].
В Византийском православном царстве Церковь была столпом, и государство старалось создать ей все условия для проповеди. Миссионерство, то есть обращение народа в христианство — главная задача Церкви с точки зрения государства. Византия знала разные эпохи. Она пережила переход от античной системы домината, в которой император был владыкой всего государства (а христианская церковь — одним из доменов), к средневековой системе отношений, менее централизованной и более договорной. Это требовало от православной Церкви приспособления к новым условиям. Но в итоге равновесие всегда сохранялось, ибо государство нуждалось в Церкви.
Само по себе христианство меньше всего было учением политическим. В божественную миссию Христоса не входило переустройство исторически сложившегося общественного порядка человеческой жизни или с указанием для народа каких-либо новых политических целей. «Воздавайте кесарю кесарево, а Божие Богу» [5]. Справедливо замечено одним из святых отцов, что Христос не бессмысленных и еще диких людей пришел просветить, но уже цивилизованных и пленившихся гражданственностью [1, с. 87]. Тандем государства и Церкви предполагал взаимодействие во всех сферах власти – исполнительной, судебной, законодательной. В Византии иначе и быть не могло: все государственные чиновники и сам император были членами Церкви, и наоборот, все верующие, включая патриарха, являлись гражданами государства.
Внутренняя история взаимоотношений государства и церкви в Византийской империи, с одной стороны, представляет собой процесс постепенного проникновения в законодательство воззрений христианской церкви, с другой стороны, подчинение этой самой церкви государству. На практике не император зависел от церкви, а церковь зависела от императора. Первая черта отразилась византийской правовой системе; вторая в том, что государство использует Церковь в качестве инструмента достижения целей империи — военной и
экономической мощи. Уникальность Византии состоит в том, что за сравнительно небольшой в исторической отрезок времени государство смогло, пройдя через различные модели взаимодействия с христианской церковью, найти тот идеал, который пытались воплотить на практике не только сами византийцы, но и народы, принявшие от них православную культуру.
Список литературы Каноническое право в системе византийского права
- Антология Святоотеческой мысли. - Изд-во: Хронос, 2008.
- Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т.3.Харвест, 2008.
- Византийская Империя. Римско-византийское правовое наследие в православном мире. Православная Энциклопедия. Т. VIII. Вероучение - Владимиро-Волынская епархия. М., 2004.
- Дворкин А.Л. Идея Вселенской теократии в поздней Византии.Альфа и Омега. 1994. № 1.
- Евангелие от Матфея 22: 15-22.