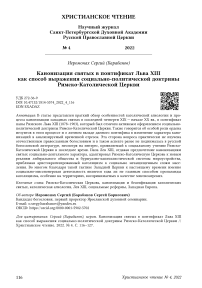Канонизация святых в понтификат Льва XIII как способ выражения социально-политической доктрины римско-католической церкви
Автор: Барабанов Сергей Борисович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен краткий обзор особенностей католической агиологии и процесса канонизации западных святых в последней четверти XIX - начале XX вв., в понтификат папы Римского Льва XIII (1878-1903), который был отмечен активным оформлением социальнополитической доктрины Римско-Католической Церкви. Также говорится об особой роли ордена иезуитов в этом процессе и о личном вкладе данного понтифика в изменение характера канонизаций в анализируемый временной отрезок. Эта сторона вопроса практически не изучена отечественным православным богословием и в таком аспекте ранее не поднималась в русской богословской литературе, несмотря на интерес, проявляемый к социальному учению РимскоКатолической Церкви в последнее время. Папа Лев XIII, отдавая предпочтение канонизациям святых социально-деятельного характера, адаптировал Римско-Католическую Церковь к новым реалиям либерального общества и буржуазно-капиталистической системы мироустройства, приближая аристократизированный католицизм к социально незащищенным слоям населения. Во многом благодаря такой тактике Западной Церкви к настоящему времени именно социально-миссионерская деятельность является едва ли не главным способом пропаганды католицизма, особенно на территориях, воспринимаемых в качестве миссионерских.
Римско-католическая церковь, канонизация и беатификация католических святых, католическая агиология, лев xiii, социальные реформы, западная европа
Короткий адрес: https://sciup.org/140296125
IDR: 140296125 | УДК: 272-36-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_116
Текст научной статьи Канонизация святых в понтификат Льва XIII как способ выражения социально-политической доктрины римско-католической церкви
Изучение современной западной агиологии — малоосвоенного пласта богословских знаний и духовного литературного наследия Католической Церкви — для православного богослова представляет несомненный интерес сразу по нескольким причинам. Во-первых, это обогащает наш кругозор и разрушает ряд стереотипов, связанных с присущим православной стороне недоверием к западной духовно-религиозной практике в целом, в то время как многие аспекты христианской истории и теологии православия и католицизма имеют общие истоки. Например, известнейший афонский подвижник прп. Никодим Святогорец, отличая зерно истины от чуждого православному Востоку католического мистицизма, перевел с итальянского на греческий аскетическое произведение католического монаха-театинца XVI в. Лоренцо Скуполи «Il combatimento spiritual», назвав его «Невидимая брань». Причем в сознании большинства соотечественников эта книга, позже переведенная на русский язык уже свт. Феофаном Затворником, ассоциируется исключительно с православием, а не с католицизмом.
Тот же свт. Феофан Затворник, как и свт. Тихон Задонский, с интересом относились к нравственно-аскетическому творчеству еще одного западного автора — католического святого Франциска Сальского (1567–1622), рекомендуя его труд «Руководство к благочестивой жизни» для чтения православной аудитории1.
Во-вторых, интерес к обширному западному житийному наследию, лишь в незначительной степени переведенному на русский язык, позволяет не только объективно проанализировать ту или иную эпоху онтогенеза Католической Церкви, но и в большей степени оценить нашу собственную православную житийную и аскетическую литературу, к сожалению, очень мало востребованную в последнее время самим православным читателем.
Кроме того, мультинациональный характер католицизма, к которому в настоящее время относятся более полутора миллиардов верующих всех трех рас на всех континентах планеты, обогатил западную агиологию и общехристианскую культуру в целом массой интересных и назидательных примеров, изучение и анализ которых позволит более объективно посмотреть на многие аспекты исторического бытия христианской Церкви.
Конечно, в этом кратком исследовании невозможно охватить столь обширный материал, поэтому более подробно хотелось бы остановиться на периоде правления 256-го «наместника св. Петра», избравшего себе имя Лев XIII (1878–1903). Понтификат этого Папы, начавшийся в 1878 г. и продолжавшийся четверть века, пришелся на один из наиболее переломных моментов истории человечества, связанный с глубокими и очень быстрыми изменениями во многих сферах жизни на фоне острого социального кризиса западного капиталистического общества, распространившегося и на бывшие европейские колонии в Новом Свете. Мир, сотрясавшийся от протестов рабочих и пока еще не знавший, что он находится на пороге фашизма, тоталитарных режимов, двух мировых войн и хаоса, постепенно отходил от традиционных христианских ценностей под влиянием целого ряда факторов различного свойства. В это время на фоне общего роста числа политических партий создавались все условия «для зарождения грядущих конфликтов на экономической, национальной и религиозной основе» [Иерусалимский, Сильвестр Лукашенко, 2021, 53].
При этом католический Рим, утративший тысячелетнюю опору в ослабевших европейских монархиях и потерявший обширные владения в бывшей Папской области, мечтал о восстановлении своего политического суверенитета. Святой Престол не мог смириться со своим устранением с шахматной доски мировой политики, предпринимая колоссальные усилия обратить на себя внимание и насколько возможно исправить или хотя бы смягчить пагубные для папства последствия Risorgimento. С этой целью Ватикан использовал как присущие только западному христианству методы, так и традиционные подходы. Например, канонизацию новых католических святых и блаженных2.
Одним из пунктов такой тактики популяризации католицизма в глазах широких масс в конце XIX — начале XX вв. также стал процесс внутренней трансформации западных религиозных практик и внимание к прежде непопулярному на Западе вопросу, «обсуждать который нелегко и в известной мере опасно»3, — вопросу социальной несправедливости и рабочих проблем, актуализированному в духе теории догматического развития в известнейшей энциклике Льва XIII «Rerum novarum».
Именно в это время получили начало и многие современные католические духовно-религиозные практики, «обратившие сердечные молитвы… верующих к милосердному Христу и к Его Святому Сердцу, к Марии и к фигурам самых близких к простому народу святых» [Picciaredda, 2006, 5]. Этот процесс также сопровождался массовым появлением новых миссионерских и социально направленных религиозных монашеских организаций, институтов «посвященной Богу жизни» и благотворительных обществ, возникавших сотнями4, особенно в странах, наиболее пострадавших от революционных потрясений, что является темой для отдельного исследования.
Анализируя особенности беатификационных и канонизационных процессов в начальный период существования линии нового папства, невольно заложенного Пием IX в связи с потерей Церковного государства, приходишь к убеждению, что прославление целого ряда католических блаженных и святых носило явно политизированный характер, чем подчеркивались все аспекты внутренней и внешней политики папского Рима той эпохи.
Преемник Пия IX — интересующий наc Папа Лев XIII, заслуживает внимания уже по той причине, что, став понтификом в 68 лет, он проявил такую небывалую активность, что заставил говорить о себе даже непримиримых антиклерикалов. Кроме того, будучи несменяемым духовным главой Западной Церкви целых 25 лет, он проще мог бороться с проблемами, так как весь управленческий аппарат Римской курии работал в сфере его интересов, а сам Папа был заинтересован в поддержании стабильности и сохранении существующего церковного устройства. Будучи, без сомнения, глубоко религиозным, чему во многом способствовало влияние его матери — графини Печчи, принадлежавшей к Третьей ветви францисканцев, Лев XIII, сам являясь терциарием5 этого нищенствующего католического ордена и одновременно знатным римским аристократом, ясно видел истоки многих проблем своей эпохи в социальной несправедливости и незащищенности простых людей. Интересно, что таких же взглядов придерживался и его известный русский современник св. прав. Иоанн Кронштадтский, объективно отмечавший, что большинство пороков общества — от бедности.
Как типичный итальянец, Папа Лев XIII также был сторонником сентиментально гипертрофированного почитания Девы Марии и специфических францисканских принципов религиозности, связанных с актуализацией «священной бедности» Христа и культом ряда святых — покровителей бедняков. Такое сочетание в одном человеке, казалось бы, трудно сочетаемых элементов делало фигуру Папы Льва поистине уникальной и отразилось на прежде не практиковавшейся в Римско-Католической Церкви в таких масштабах социализации прославления новых святых и блаженных6. Доказательством этого факта являются их житийно-биографические источники и агио-логические свидетельства, на чем мы остановимся подробней.
Чтобы картина изменений в сторону социализации стала еще более очевидной, уместно привести примеры сугубо политизированных канонизаций из предыдущего Льву XIII понтификата. Так, ярким проявлением политиканства Пия IX и выражением его крайне негативного отношения к православию стало «прославление» этим Папой ярого русофоба и антиортодокса Иосафата Кунцевича, униатского архиепископа Полоцкого, убитого толпой за свою особую жестокость к православным Белоруссии. Или канонизация убитого евреями-маранами испанского инквизитора Педро де Ар-буэса, жертвами которого стали тысячи невинных. Пий IX канонизировал и пострадавшего от протестантов чешского священника Яна Саркандера, а также убитого украинскими казаками иезуита Андрея Боболю. Однозначно, что через прославление этих святых терявший светскую власть Папа-реформатор пытался «противопоставить себя и страдающую в лице своих мучеников Католическую Церковь с конфессиями, антикатолицизм которых является обязательным элементом их религиозной самоидентификации» [Сергий Барабанов, 2015, 66].
В последующий за Пием IX понтификат Льва XIII в связи с активизацией социально-политического разворота отчасти изменилась и направленность прославления новых святых и блаженных. Причину этого можно увидеть не только в попытке приспособиться к новой действительности буржуазного общества, но и в частных взглядах этих двух понтификов на решение социальных проблем. Однако традиционная преемственность была сохранена.
Так, в понтификат Льва XIII была беатифицирована целая плеяда католических мучеников Англии, Вьетнама, Китая и Индии. Например, китайские священники Филипп Фан Ван Минь7 и Фаддей Лю Руитинг8, вьетнамский священник Феро Ранг
Кхоа (†1838) и его сподвижник катехизатор Феро Ву Ван Труат9, а также убитые во Вьетнаме французский миссионер еп. Пьер Дюмулен10, мирянин Симон Фан Дак Хоа, обезглавленный 12 декабря 1840 г.11, фермер Стефано Нгуен Ван Винь12 и священник Ральф Шервин (†1581)13 с группой «Сорока мучеников Англии и Уэльса», пострадавших при короле-реформаторе Генрихе VIII и при его потомках [Martirologio Romano, 2004, 376–377, 826–828]. В этих случаях, и особенно в последнем, явно прослеживается политическая составляющая, позже подтвержденная отказом Льва XIII признать наличие апостольского преемства у англиканской иерархии14.
Еще одной политизированной беатификацией стало прославление Львом XIII в лике блаженных автора знаменитой «Утопии» Томаса Мора, казненного тем же Генрихом VIII за отказ подчинить свои религиозные убеждения политическим нуждам этого короля [Luzi, 2014, 616–617; Сикари, 1991, 15–19; Martirologio Romano, 2004, 485–486].
Однако количество политизированных канонизаций в понтификат Льва XIII значительно уступает числу канонизаций по социальному аспекту. Это хорошо просматривается в прославлении этим Папой родоначальника ордена варна-витов свящ. Антонио Марии Заккарии (†1539)15 [Martirologio Romano, 2004, 517] и священника-варнавита Франческо Саверио Мария Бьянки (†1815)16, обширная социальная деятельность которых была направлена на благотворительность, исправление нравов верующих, борьбу с проституцией, апостольство мирян и частое причащение [Martirologio Romano, 2004, 170].
Лев XIII также канонизировал семь основателей нищенствующего ордена серви-тов17 [Martirologio Romano, 2004, 207], выпустившего из своих рядов, несмотря на свою весьма специфическую «мариальную» набожность, много западных ученых, живописцев, архитекторов, скульпторов, музыкантов и математиков.
Другой канонизацией с сильным социальным оттенком стало прославление Львом XIII в 1881 г. священника Джованни Баттиста Росси (†1764)18, на собственные средства открывшего приют для бездомных женщин и материально помогавшего римским нищим, распутным женщинам и заключенным. Не менее интересно с позиции социальной политики и прославление в лике католических блаженных француза Жана Батиста де ла Саль (†1719), без сожаления употребившего все свое колоссальное состояние19 на покупку хлеба беднякам в страшный по своим масштабам голод 1683– 1684 гг., а также на обустройство и содержание первых в истории им же устроенных средних школ и на помощь обездоленным детям. Этот католический блаженный известен также тем, что первым в истории разделил учащихся на классы, в связи с чем на Западе он считается одним из покровителей учащих и учащихся [Luzi, 2014, 335–336; Martirologio Romano, 2004, 309–310].
Здесь также стоит отметить, что Лев XIII, уделявший повышенное внимание образованию и воспринимавший его недостаток как острую социальную проблему, прославил не только Жана Батиста де ла Саль, но и английского богослова и историка Беду Достопочтенного (†735)20 [Martirologio Romano, 2004, 421], в сочинениях которого Католическая Церковь нашла пример раннесредневекового теологического обоснования борьбы с социальной несправедливостью и варварством с духовного, доктринального и культурного аспектов. Немного ранее, в 1883 г., Лев XIII беатифицировал казненного Теодорихом поэта-латиниста Северина Боэция (†525) [Martirologio Romano, 2004, 826], писавшего в своих трудах о нестабильности той государственной системы, правительство которой зависит от одного человека21. Этот момент литературного наследия прославляемого Боэция был своеобразным вызовом Папы в адрес итальянской династии Сабаудов и короля Умберто I, не способного, по мнению Льва XIII, навести порядок в стране, раздираемой мафиозными кланами и коррупцией22.
Интересующий нас исторический период, отмеченный Второй промышленной революцией — веком стали, электричества, нефти и химии, также был связан с усиливающейся урбанизацией и эмиграцией католиков в Северную Америку. Индустриализация, выступавшая стимулом международной торговли, способствовала активизации международных отношений в сфере бизнеса и усилению коммерческих и культурных контактов с некатолическими государствами. Однако особо непримиримое отношение Ватикан эпохи Льва XIII испытывал к исламу.
Так, открытое осуждение Католической Церковью ислама просматривается в житии Еврозии (или Орозии), «vergine e martire» (†714), особо почитаемой на северо-востоке Испании — в зоне исторического противостояния арабскому миру, и общецерковно прославленной Львом XIII в 1902 г. Согласно агиологическим источникам, она была зверски убита мусульманами за отказ выйти замуж за мавра23 [Martirologio Romano, 2004, 492; Bunson, 2014, 556]. Открытая неприязнь к исламу нашла отражение и в канонизации убитого магометанами священника Илариона Эспалионского. Так, житие этого католического святого гласит, что его обезглавленное мусульманами тело встало, смыло кровь с отрубленной головы и отнесло эту голову матери, так как при жизни св. Илариан пообещал ей это сделать, когда она напоминала ему об опасности прохождения через мусульманскую территорию (Илариан из Ле-винака, †793)24. Кроме этих лиц в разное время Львом XIII были беатифицированы зверски убитые мусульманами монах-кармелит Томас Родригес да Кунья (†1638)25 [Martirologio Romano, 2004, 915], за битый камнями монах-тринитарий Марко Криадо
(†1569)26 [Martirologio Romano, 2004, 754] и францисканец Никола Тавелич (†1391)27, публично сожженный последователями Мухаммеда у Яффских ворот Иерусалима [Martirologio Romano, 2004, 877–878].
Стоит также отметить, что данный Папа наряду с открытым осуждением ислама категорически не одобрял кремацию, закономерно называя ее «варварским и отвратительным обычаем», абсолютно неприемлемым для католиков [Сергий Барабанов, 2017, 101].
Проводя мысль, что путь к святости лежит скорей в обычном, чем в необычном, 15 января 1888 г. Лев XIII канонизировал умершего в 22-летнем возрасте иезуита из Бельгии Джона Берхманса (†1621)28, объявив его одним из покровителей молодежи [Luzi, 2014, 788–789; Martirologio Romano, 2004, 633]. Еще одним иезуитом, канонизированным в тот же день, стал Петр Клавер (†1654), африканский миссионер и противник рабства, согласно житию, обративший в католицизм около 300 тысяч негров и всю свою жизнь старавшийся облегчать их страдания29 [Luzi, 2014, 881–883; Martirologio Romano, 2004, 710].
Не менее интересно и житие канонизированного на год раньше еще одного иезуита — разорившегося торговца, потерявшего всю свою семью Алонсо Родригеса (†1617)30, носильщика и привратника в иезуитском колледже Пальма де Майорка, ставшего духовным примером для Петра Клавера. Согласно агиографическим источникам, он был настолько кроток и послушен начальству, что когда ему в шутку приказали съесть стеклянную тарелку, он пытался разрезать ее ножом [Martirologio Romano, 2004, 844].
Доказательством особой симпатии Льва XIII к Societas Jesu, помимо вышеупомянутых канонизаций, также стала беатификация в разное время этим понтификом еще восьми последователей Игнатия Лойолы: миссионеров Альфонсо Пачеко (†1583), Рудольфо Аквавива (†1583) и Франсиско Аранья (†1583), убитых язычниками в Гоа и в Индии; приходского миссионера-итальянца Антонио Балдинуччи (†1717); английских иезуитов Джона Нельсона (†1578) и Томаса Коттама (†1582), четвертованных за отказ признать превосходство английского монарха в делах веры, а также сподвижника Игнатия Лойолы Петра Фабера (†1546) и Бернардино Реалино (†1616), считающегося небесным покровителем итальянского города Лечче, где им была развернута активная социальная и просветительская деятельность среди местной бедноты.
Несомненно, что, уделяя повышенное внимание канонизациям и беатификаци-ям особенно членов Societas Jesu, Папа Лев подчеркивал исключительную роль этого неоднозначно воспринимаемого католического монашеского ордена в социальнополитической деятельности и в будущем Западной Церкви. Здесь необходимо пояснить, что, несмотря на симпатии к францисканцам, с иезуитами Льва XIII связывали многолетние связи — 14 лет успешного обучения в орденских коллегиумах и папском иезуитском университете «Grigorianum», а также принадлежность к этому ордену его старшего брата — кардинала Джузеппе Печчи (1807–1890) [McGovern, 1903, 5–78].
Кроме того, канонизируя в основном представителей простого сословия, Лев XIII тем самым приближал аристократизированную Католическую Церковь к рядовым верующим. Интересно отметить, что среди канонизированных в его понтификат очень мало выходцев из высшего общества и при этом практически все они служили социальным потребностям простого народа. Так, 27 мая 1897 г. Лев XIII прославил в лике католических святых Петра Фурье (†1640), регулярного каноника-августинца знатного происхождения, учредившего несколько благотворительных заведений и банков для бедных на территории Франции [Luzi, 2014, 1176; Martirologio Romano, 2004, 936].
Однако особое внимание в этом длинном перечне имен хотелось бы уделить канонизированной Львом XIII 14 мая 1900 г. Рите из Кашии, чья непростая жизнь прошла в окрестностях Перуджи — города, епископом которого «великий Папа рабочих» являлся без малого 32 года. Пример ее жизни и христианского подвига настолько универсален, что, несмотря на принадлежность этой святой к западной традиции, со всеми вытекающими из этого мистическими особенностями ее жития, она может являться примером служения христианской супруги и матери для многих.
Сам факт тщательного подхода к прославлению этой монахини-августинки, беа-тифицированной еще Урбаном VIII в 1626 г., стал одним из ответов Рима на активные попытки искажения секуляризированным европейским обществом понятий об идеальном государстве. В русле этой борьбы, закономерно осуждая пагубное влияние либеральной демократии на гражданскую, семейную и социальную сферы, в программной энциклике «Immortale Dei», посвященной сложным взаимоотношениям Католической Церкви и светского государства, Папа Лев XIII провел связь между социально-политическим равновесием общества в целом, положением Церкви в государстве и стабильностью в жизни семейной. Отмечая, что равновесие в государстве во многом зависит от благополучия Церкви, которая «куда бы ни ступала, смягчала нравственный облик народа», прочности семьи и религиозности граждан, «христианская организация гражданского общества» подобна «браку, единому и нерасторжимому, в котором мудрой справедливостью… управляются права мужа и жены». Как «власть мужа подчиняется образцу, явленному властью Бога», так «и высокое служение правителей должно держать в почтении», однако лишь в том случае, если «Церковь и государство единились в согласии и дружественном обмене». Так как власть имеет своим источником Творца, важно «не уклоняться от справедливости и не доходить до злоупотреблений в руководстве»31.
Если провести параллель между данным документом и житийными источниками о св. Рите из Кашии, видно, что принципы, провозглашенные энцикликой, нашли отражение в биографии этой католической святой, считающейся на Западе покровительницей безнадежных дел, отчаявшихся людей и жертв физического насилия.
Согласно ее житию, с детства тяготея к монашеству, но выйдя замуж в 18-летнем возрасте из послушания родителям, она стала матерью двух сыновей-близнецов и в течение еще 18 лет со смирением и любовью терпела тяжелый характер своего супруга Паоло Манчини, втянутого в политические споры гвельфов и гибеллинов и позже убитого в результате одной из стычек. После смерти мужа родственники ее супруга насильно отняли у нее двух ее сыновей-подростков для подготовки их к вендетте с целью отомстить за убийство своего отца. Не желая мириться с мыслью, что пролитием крови ее сыновья погубят свои души, оставшаяся в совершенном одиночестве Рита, преодолев природные материнские чувства, стала молиться о ниспола-нии своим детям смертельной болезни.
Многочисленные агиологические источники согласно свидетельствуют о том, что ее молитва была услышана и после смерти своих детей она решила оставить мир и удалиться в монастырь августинок рядом с Кашией. Однако и тут ей было отказано, так как многие монахини были родственницами убийц ее мужа. После ряда испытаний и окончательного поступления в обитель она прожила в монашестве 44 года до самой своей смерти в 1447 г. [Nahum, Bergamino, 2013, 200–201; Luzi, 2014, 506–508]. Последние четыре года жизни Рита Манчини была прикована к постели тяжелой болезнью и страдала от незаживающей раны на лице, воспринимаемой многими мистически настроенными ее почитателями в качестве стигмата [Сикари, 1998, 229–243; Martirologio Romano, 2004, 414].
Несмотря на то, что житие св. Риты может восприниматься православной аудиторией в качестве идеализированной драмы и является наследием уже разделенной Церкви, необходимо принять во внимание, что Рита из Кашии в настоящее время считается одной из наиболее почитаемых современными католиками святых и является в глазах многих универсальным воплощением общехристианского идеала послушной дочери, верной и терпеливой супруги, любящей матери, молодой, но при этом целомудренной вдовы и смиренной монахини. Ее житие ясно говорит о том, что во избежание социальных проблем в государстве и в семье необходимо «с постоянством и верностью… уклоняться от мятежных действий и сохранить в неприкосновенности святую дисциплину»32. Ведь именно государство, ячейкой которого является семья, согласно официальному социальному учению Римско-Католической Церкви, есть «высший страж общего блага», и «его власть должна быть единой, всеохватывающей, суверенной и принудительной» [Хеффнер, 2004, 247].
Еще одной важной особенностью жития Риты из Кашии, что делает его (помимо захватывающего сюжета) интересным и для православной аудитории, является верная расстановка жизненных приоритетов: спасение душ своих детей выше их земного благополучия. Такой подход к воспитанию даже у воцерковленных православных родителей сейчас бывает редким. Озвучивая эту острую общехристианскую социальную проблему, Папский Совет по делам семьи отмечает, что современные «родители не умеют наказывать, когда это необходимо. Дети и подростки получают полную свободу для эгоистических выходок. <…> Семья не предполагает демократию, равно как и школа» [Лексикон, 2009, 478–480].
Стоит отметить, что общецерковное прославление Риты Манчини стало частью успешной тактики миссионерства и теологической рефлексии Льва XIII и способствовало активному формированию имиджа «папского благочестия», сильно подорванного политикой предшествующих Льву XIII Пап-монархов Григория XVI и Пия IX, неоднократно подавлявших народные волнения в Папской области грубой военной силой.
В данном русле интересна и канонизация Львом XIII основателя ордена сильвестринцев Сильвестра Гуццолини (Гоццоли), бенедиктинца-обсерванта, обосновавшегося в 1231 г. на горе Монтефано близ Анконы [Luzi, 2014, 1128–1129; Martirologio Romano, 2004, 907]. В отличие от традиционных бенедиктинцев, ведущих в основном оседлую конвентуальную жизнь, с середины XIX в., несмотря на свою малочисленность, этот орден вышел за пределы Италии и стал проводить активную социально-миссионерскую деятельность на Цейлоне и в США — в Канзасе и Детройте, что побудило Льва XIII поднять вопрос о канонизации его основателя через пять с половиной столетий после его беатификации.
Как видим, не только религиозно-аскетический импульс и мистицизм, но и появившаяся у старых католических орденов активная социально-миссионерская направленность стали побудительной причиной для канонизации их родоначальников и основателей спустя сотни лет после их кончины. Так, сервиты, практически пережившие упадок своего ордена в эпоху наполеоновской смуты и последовавшей за ней общей секуляризации общества, с 70-х гг. XIX в. вышли за пределы Италии и прочно обосновались в Англии и США. В настоящее время свою активную социальную работу в сфере миссии и образования они ведут уже в 27 странах мира.
В заключение стоит отметить, что определенным положительным аспектом описываемой в статье канонизационной политики, по мнению автора, является намеренное избегание Львом XIII тяжелой темы униатства и открытого враждебного отношения к православию, столь часто поднимавшейся его предшественником Пием IX как через канонизацию Иосафата Кунцевича, так и в ряде программных документов, например в энцикликах «Singulare quidam» и «In suprema Petri Apostoli sede», в которых Папа-реформатор утверждал, что «никто не может быть спасен вне
Римской Апостольской Церкви, которая является единственным источником спасе-ния»33, поэтому желает собрать всех «разбредшихся… по бездорожью и кустам, кто еще не находится в общении… с престолом св. Петра»34.
Можно также констатировать, что Лев XIII, отдавая предпочтение канонизациям таких католических святых и блаженных, которые при жизни являлись примером не только западного благочестия, но и социально-деятельного характера, определенно расширил рамки тех границ, в которых папский Рим существовал в предшествующие понтификаты. Это стало одним из этапов процесса адаптации Римско-Католической Церкви к новым историческим реалиям либерального общества и буржуазнокапиталистической системы мироустройства и отчасти приблизило аристократизиро-ванный католицизм к социально незащищенным слоям населения. Однако этим же шагом «великий Папа рабочих» в очередной раз подчеркнул свободу Католической Церкви от светского государства и независимость папства в Риме. Осознавая неизбежность перемен, Лев XIII с помощью традиционных для Церкви способов дал импульс к дальнейшему формированию социально-политической доктрины Ватикана, активной миссионерской работе и к поддержке социально незащищенных слоев населения, что было официально ратифицировано папским престолом в программной энциклике этого понтифика «Rerum novarum». В итоге такой политики Льва XIII, продолженной его преемниками в XX и в XXI вв., к настоящему времени социально-миссионерская деятельность является едва ли не главным способом пропаганды католицизма, особенно на территориях, воспринимаемых Ватиканом в качестве миссионерских35.
Список литературы Канонизация святых в понтификат Льва XIII как способ выражения социально-политической доктрины римско-католической церкви
- In suprema Petri Apostoli sede, энциклика — Послание к восточным христианам папы Pимского Пия IX от 6 января 1848 г. URL: https://www.agnuz.info/ app/webroot/library/224/366/ page1.htm (дата обращения: 07.09.2022).
- Immortale Dei, энциклика папы Pимского Льва XIII от 1 ноября 1885 г. URL: https:// fsspx-fsipd.lv/ru/doctrina-ecclesiae/de-haeresii/24-immortale-dei (дата обращения: 07.09.2022).
- Martirologio Romano. Conferenza episcopale Italiana. Libreria editrice Vaticana, Roma, 2004. URL: https://www.liturgia.it/content/Martirologio-Romano.pdf (дата обращения: 07.09.2022).
- Rerum novarum, энциклика папы Pимского Льва XIII от 15 мая 1891 г. URL: https:// fsspx-fsipd.lv/ru/doctrina-ecclesiae/de-haeresii/22-rerum-novarum (дата обращения: 07.09.2022).
- Singulare quidam, энциклика папы Pимского Пия IX от 9 декабря 1854 г. Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви (III-XX вв.). СПб., Изд-во св. Петра. 2002.
- Иерусалимский, Сильвестр Лукашенко (2021) — Иерусалимский Ю. Ю, проф., Сильвестр (Лукашенко), архим. Хаос в современном мире: политическое измерение. Ярославль: Российские справочники, 2021.
- Лексикон (2009) — Лексикон. Папский Совет по делам семьи. Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. Новое осмысление воспитательных отношений / Пер. с итал. М.: Изд-во францисканцев, 2009.
- Сергий Барабанов (2015) — Сергий (Барабанов), иером. Догматические реформы папы Римского Пия IX. Дис. ... канд. богословия. Сергиев Посад, МДА, 2015.
- Сергий Барабанов (2017) — Сергий (Барабанов), иером. Кремация и христианская традиция // Сборник трудов Ярославской духовной семинарии, 2017.
- Сикари (1991) — Сикари А., свящ. Портреты святых. Милан, 1991. Т. 1-2.
- Сикари (1998) — Сикари А., свящ. Портреты святых. Милан, 1998. Т. 3-4.
- Хеффнер (2004) — Хеффнер Й, кард. Христианское социальное учение. М.: Культурно-просветительский центр «Духовная библиотека», 2004.
- Bunson (2014) — Bunson M. Encyclopedia of Saints. New York, 2014.
- Luzi (2014) — Luzi L. I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire. Camerata Picena, 2014.
- McGovern (1903) — McGovern J. J. Life and Life-Work of Pope Leo XIII. Chicago, 1903.
- Nahum, Bergamino (2013) — Nahum D., Bergamino D. Grande libro dei Santi: vita, morte e miracoli dei principali santi del calendario liturgico. Rusconi libri, 2013.
- OMalley — OMalley Ch. J. The Great while shepherd of Christendom, Pope Leo XIII: his life, poems, encyclicals and public documents. Chicago, 1903.
- Picciaredda (2006) — Picciaredda S, Vittorio V.A. Il mondo di Leone XIII: L'incontro della Chiesa con il XX secolo. Roma, 2006.