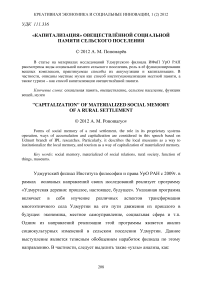«Капитализация» овеществлённой социальной памяти сельского поселения
Автор: Пономарв Алексей Михайлович
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Люди и вещи: предметные артикуляции в меняющемся обществе
Статья в выпуске: 1 (2), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье на материалах исследований Удмуртского филиала ИФиП УрО РАН рассмотрены виды социальной памяти сельского поселения, роль в её функционировании вещных комплексов, практикуемые способы их аккумуляции и капитализации. В частности, описаны местные музеи как способ институционализации местной памяти, а также туризм - как способ капитализации овеществлённой памяти.
Социальная память, овеществление, сельское население, функции вещей, музеи
Короткий адрес: https://sciup.org/14238910
IDR: 14238910 | УДК: 111.316
Текст научной статьи «Капитализация» овеществлённой социальной памяти сельского поселения
Удмуртский филиал Института философии и права УрО РАН с 2009г. в рамках основных направлений своих исследований реализует программу «Удмуртская деревня: прошлое, настоящее, будущее». Указанная программа включает в себя изучение различных аспектов трансформации многоэтничного села Удмуртии на его пути движения из прошлого в будущее: экономика, местное самоуправление, социальная сфера и т.п. Одним из направлений реализации этой программы является анализ социокультурных изменений в сельском поселении Удмуртии. Данное выступление является тезисным обобщением наработок филиала по этому направлению. В частности, следует выделить такие «узлы» анализа, как:
социальная память сельского поселения и вещь, артефакт в её функционировании;
концентрация «исторических» вещей в социокультурном пространстве села;
способы овеществления и «капитализации» социальной памяти сельского поселения.
Локальная память, её бытование, характер и способ сохранения в современных условиях оказалась в зоне исследовательского интереса проекта изначально. Анализируя собираемую информацию под данным углом зрения, в ходе исследования было выделено два основных «вида» локальной социальной памяти. В первую очередь – это семейная память, та информация, которая передаётся от одного поколения другому в пределах семьи. Второй вид – общая память населённого пункта, округи. Эта общая память является частью механизма формирования коллективного «мы» конкретного поселения. При этом в этой памяти – порой в причудливой форме, - во взаимном переплетении функционируют «информационные блоки», относящиеся к различным «археологическим» пластам. Оба вида памяти – семейная и коллективная, - также проникают друг в друга. Общее для обоих видов памяти – опора на устную коммуникацию. Различие – в степени проникновения в механизм функционирования социальной памяти письменной коммуникации.
«Глубина» семейной памяти в своём подавляющем большинстве ограничивается памятью наличных поколений. Её содержание – личные, семейные события. В ядро памяти входят события, затрагивающие нескольких членов семьи, связанные с совместными действиями. События, которые не являются таковыми, - даже если они «социально типические», как, например, служба в армии, - остаются на её периферии. Семейная память не является нарративом, актуализируется фрагментарно. Актуализация тех или иных фрагментов семейной памяти происходит по мере каких-либо значимых семейных событий. Ситуацией, в которых чаще всего происходит воспоминание, является встреча родственников, которые не проживают совместно и долгое время не виделись. Т.е., это ситуация, выходящая за рамки рутинной повседневности, своеобразный «маленький праздник», (часто поводом для встречи является семейный праздник). После обмена новостями, рассказами о событиях у родни могут возникать ситуации, когда начинается припоминание. Например, уточнение каких-то деталей прошлых событий, которые упоминаются в контексте разговора. Другим поводом могут быть события, находящиеся в центре внимания СМИ, о которых говорят. В условиях «праздности» возможны вопросы к участникам этих или аналогичных событий и рассказы последних. Наиболее интенсивно семейная память «работает» в ситуации породнения нескольких семей. На совместных праздниках породнившихся ситуативные рассказы наиболее часты, новые родственники как бы вводятся/входят в контекст существования друг друга.
Социальный контекст семейной памяти играет роль фона. Сегодня он закрепляется через артефакты – например, фотографии, почётные грамоты, благодарности. «Семейный альбом» является и поводом припомнить семейные события, и механизмом введения семейной истории в более общую историю. При этом роль артефакта могут выполнять и вполне бытовые вещи, сделанные когда-то живым или почившим родственником. Например, обнаруженные кружева, вышивки могут стать темой «исторического» разговора между матерью и дочерью, свекровкой и снохой: что носили в то время, когда была сделана вышивка, откуда брался рисунок, как делалась та или иная вещь. Использование, например, вещи, сделанной кем-то из родственников, может обернуться рассказом о нём сыну, внуку. Т.е., бытовые артефакты могут оказаться неожиданным поводом вплетения в повседневную рутину семейной истории.
Социальный контекст сильнее выражен в памяти семей, которые занимают более доминирующие позиции. Это, например, фотографии с «начальниками», фотографии, сделанные на каких-либо общественнополитических, культурно-массовых мероприятиях. Поскольку члены этих семей влияли на события в поселении, сами рассказы о них более богаты социальным контекстом. В качестве примера можно привести рассказ о прокладке асфальтовой дороги в п.Лынга Якшур-Бодьинского района родственниками А.Я. Данилова, бывшего на тот момент директором леспромхоза в посёлке. Если рассказ жителя посёлка об асфальтовой дороге, которой пользуются и по сей день, лишь поминает о том, что она была сделана в период директорства Александра Яковлевича, то рассказ его жены, детей включает такие подробности, как его поездки в Ижевск, приглашение и приезд «москвича», т.к. требовалось убедить на уровне Москвы в необходимости асфальтирования дороги.
Другим примером влияния «социального капитала» на функционирование семейной памяти могут служить записанные семейные истории, хотя эти случаи встречаются крайне редко. Такие записи сделаны сознательно либо образованным членом семьи, который придаёт значимость семейной истории, либо членом семьи, который «оторвался» от корней, переехав в город. Такие записи не всегда носят характер хронологической последовательности, а часто являются записками по поводу того или иного вспомнившегося события. Интересным случаем является тетрадь Ирисовой, -возможно, дочери одного из первых купцов-удмуртов, - обнаруженной её внуком и содержащей описание быта их семьи в начале ХХ века. В качестве примера «переклички эпох» и роли артефактов в семейной истории можно привести случай, зафиксированный сотрудниками института в д.Шудья. В деревне, расположенной под Ижевском, привлекает внимание двухэтажный дом с каменным низом. Облик дома позволяет безошибочно отнести время его постройки к дореволюционному. По рассказам старожилов, владелец этого дома был раскулачен и переселился в Ижевск. Уже в после перестроечное время дом был совместно выкуплен внуками и используется ими как загородный дом.
Поскольку для участия в семейных праздниках (в собственном значении этого словосочетания) приглашаются соседи, друзья, такого рода припоминания становятся совместными воспоминаниями о событиях, значимых для соседей, села в целом. Такие воспоминания вплетают семейную память в устную коллективную память поселения. Коллективная память несёт информацию о более глубоких «археологических» пластах, хотя в её ядре находятся события, происходившие уже на памяти живущих поколений. Как и семейная память, устная коллективная память событийна, актуализируется фрагментарно. В качестве её особенности можно указать хронологизацию событий по именам ключевых фигур в истории поселения. Чаще всего таковыми являются сильные председатели колхозов, совхозов, длительное время управлявшие местными хозяйствами. Помимо совместных соседских праздников поводом для актуализации сведений коллективной памяти является появление нового человека в поселении, особенно если он проявляет интерес к тем или иным событиям, строениям, названиям и т.п.. В этом контексте нельзя не упомянуть местную топонимику, прозвища тех или иных односельчан, местные памятники. Топонимика может прямо отсылать к каким-либо событиям, контекстам или же объясняться народной этимологией. Памятники могут отсылать к информации, которая известна только местным жителям. Например, в с. Кулига Кезского района имеется памятник гражданской войне. На довольно-таки стандартной небольшой стеле записаны имена красноармейцев. Но местные жители знают, что это фактически братская могила и красноармейцев, и колчаковцев, погибших здесь во время боёв.
Особенность текущей ситуации в коллективной памяти сельских поселений может быть охарактеризована как институционализация.
Проявляется это, среди прочего, в открытии местных музеев. Можно утверждать, что в последние десять-пятнадцать лет в сельской местности Удмуртии переживается своеобразный «краеведческий бум» (слова одного из респондентов). Необходимость кавычек вызвана тем, что музейные точки в современном сельском поселении Удмуртии различаются как по своему юридическому статусу, так и фактическому содержанию.
Подавляющее большинство такого рода музеев находиться в центрах муниципальных образований, становятся обязательным атрибутом районных центров. На одном полюсе – музеи, имеющие официальный статус и ставки для сотрудников, на другом – небольшие этнокраеведческие уголки, которые можно обнаружить в несколько неожиданных местах – например, частные коллекции на дому. В ряде случаев частные коллекции краеведов-любителей являются той начальной точкой, из которой в течение одного – двух десятилетий вырастает местный краеведческий музей. В подавляющем большинстве случаев такой музей появляется в качестве школьного уголка, реже – как уголок в библиотеке или детском саду.
По своему содержанию эти музеи имеют в подавляющем большинстве чётко выраженную историко-этно-краеведческую тематику. Не в последнюю очередь это связано с тем, что организаторами таких музеев выступают школьные учителя истории или энтузиасты, которые интересуются историей своей деревни, семьи. Но особенности формирования и истории сельских поселений накладывают отпечаток на содержание экспозиции. Например, музей с. Кулига Кезского района, имеющий официальный статус, посвящён старообрядчеству, т.к. большинство деревень данного муниципального округа основаны староверами из-под Пскова, Москвы, Архангельска. Районный музей с. Дебёссы Дебёсского района – Сибирскому тракту, т.к. в этом селе соединялись ветки «государевой» дороги, идущие из С-Петербурга и Москвы. Некоторые музеи отражают особенности пристрастий их собирателей. Например, финно-угорский музей в д.Шудья в доме М.И.
Шишкина, первого Президента Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» и одного из организаторов Всероссийской и Международной финно-угорских ассоциаций.
Наряду с типичными краеведческими музеями могут встречаться музеи, посвященные тем или иным людям – музей Веры Толстой, выучившей не одно поколение селян, в д. Большие Сибы. Другой пример может служить своеобразной иллюстрацией «вторжения» большого мира в повседневность села. Речь идёт о частной коллекции, получившей официальный статус -Художественная галерея п. Игра. Это частная коллекция судьи Конституционного Суда РФ, профессора Витрука Н.В.. Уроженец Сибири Витрук Н.В. всю жизнь собирал картины удмуртских художников. Собранная коллекция была перевезена из Москвы и подарена Игринскому району.
Но вне зависимости от статуса и экспозиций все местные музеи выполняют важную социокультурную функцию. Помимо традиционных функций – сохранение памяти и формирование местной идентичности, -выявлены функции, которые могут быть отнесены к обеспечению выживания сельских поселений, их адаптаций к современным условиям. В частности, в беседах с музейщиками-краеведами удалось выявить такую потенциальную функцию как моделирование поведения жителей поселения (положение выдвинуто как гипотеза для дальнейшей проверки в ходе исследований; естественна в этом случае оговорка – местный музей выполняет эту функцию как элемент целого комплекса мероприятий и с учётом социальноэкономических реалий). Помимо этого, в ходе апробации механизмов управления развитием сельского поселения предполагается проверить потенциал небольших музеев в направлении привлечения внешних ресурсов. Основной формой такого привлечения в настоящее время видится формирование сообществ из числа уроженцев муниципального округа, которые выехали для постоянного жительства и работы в иные регионы.
Последнее предположение – способность вещественных комплексов, локализованных в конкретном ландшафте, привлекать ресурсы - начинает приобретать зримое очертание. Речь идёт о развитии аграрного, этнического и рекреационнного, спортивного туризма. По сути, в развитии ряда сельских поселений возникает проблема аккумуляции и конвертации их социального и культурного капитала в финансовые потоки. Сразу следует оговориться, что развитие туризма в сельских поселениях Удмуртии носит комплексный характер (он одновременно и этнический, и познавательный, и спортивный, и культурный и т.д.), а рассмотренные выше формы функционирования социальной памяти носят в этом развитии вспомогательный характер, переплетены с иными локальными ресурсами, дополняют их. Это скорее культурно-туристический компонент, дополняющий основной вид туризма.
В этой связи нельзя не упомянуть о своеобразном риске, порождаемом таким подчинённым состоянием. Это – создание «фальшпанелей». Это не только творение в угоду потенциальному рыночному спросу новых местных «мифов и легенд», но и создание (особенно под видом воссоздания) новых артефактов. Это - момент риска, т.к. потенциальный и фактический спрос связан с аутентичным материалом. Образно говоря, в Дебёсский район едут увидеть именно дебёсский, а, например, не алнашский этнографический костюм, обряд и т.п.. «Рыночно» ориентированная легенда легко может быть скопирована и модифицирована конкурентом. Именно поэтому она не может считаться конкретным преимуществом, под которым понимается особенность, которую невозможно или трудно скопировать или воспроизвести. Понятно, что обращение и «коммерциализация» аутентичного фольклорного и этнографического материала более затратна хотя бы потому, что требует кропотливой исследовательской работы, которая затруднительна без соответствующих навыков.
В качестве примера удачных проектов можно рассмотреть два. Первый – д. Карамас-Пельга Киясовского района, второй – д. Сосновый Бор
Кезского района. Первый случай – развитие от «культурного» проекта к туризму. Второй случай – наполнение туристического поднаправления бизнеса фермера «культурным» компонентом.
В д. Карамас-Пельга была предпринята попытка восстановить традиционный удмуртский праздник окончания пахоты. По окончании этого праздника в деревню приносилась и разносилась ритуальная каша. На третий год возобновления обряда по воспоминаниям пожилых жительниц деревни был восстановлен полузаброшенный дом в том виде, каким он был во времена их детства. В итоге, в деревне появился не этнографически-музейная, а аутентичная крестьянская изба первой трети ХХ в., которая стала одним из культурных центров деревни. Проводимые в ней мероприятия стали привлекать жителей района, а затем и близлежащих городов. Важной чертой посещения туристами деревни является то, что они в состоянии сами «апробировать» аутентичные вещи в ходе приготовления, например, традиционных блюд, посещения бани и т.п..
Туризм в д. Сосновый Бор начинался как гостевой дом при фермерском хозяйстве, т.е. как агротуристическое дополнение к основному виду деятельности. По мере роста масштабов по совету местного краеведа комплекс «Живица» обзавёлся собственным этнографическим комплексом. Особенность его заключается в наличии аутентичных построек, выкупаемых в умирающих деревнях, аутентичного инвентаря (некоторые экспонаты являются уникальными, вызывают интерес более профессиональных экспозиций). Задача этого комплекса – не научное просвещение, а развлечение. В кузнице, пекарне турист может сам попробовать смастерить что-либо или освоить рецепт из традиционной кухни.
На приведённых примерах видно, что вещь в социально-культурном пространстве может приобрести функцию хранителя исторической памяти. В таковом качестве она выступает как средство хранения и наращивания социального и культурного капитала, что закрепляется термином
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 аутентичность, выражается словом «настоящая…». Соответственно, она может быть подвергнута «капитализации», стать источником финансовых поступлений. Но эта же возможность несёт в себе риск инфляции аутентичной вещи, её подмены. Последнее актуализирует развитие человеческого капитала в конкретном месте, поскольку противостоять такой инфляции может экспертное знание, пользующееся доверием.