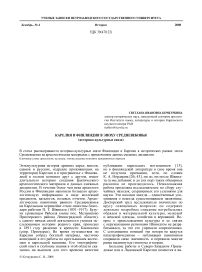Карелия и Финляндия в эпоху Средневековья (историко-культурные связи)
Автор: Кочкуркина Светлана Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются историко-культурные связи Финляндии и Карелии в исторических рамках эпохи Средневековья на археологических материалах с привлечением данных смежных дисциплин.
Археология, культура, этнокультурные контакты приграничных народов
Короткий адрес: https://sciup.org/14749490
IDR: 14749490 | УДК: 39(470.22)
Текст научной статьи Карелия и Финляндия в эпоху Средневековья (историко-культурные связи)
Этнокультурная история древних карел, вепсов, саамов и русских, издревле проживающих на территории Карелии и в приграничье с Финляндией в тесном контакте друг с другом, имеет длительную историю создания фактического археологического материала и данных смежных дисциплин. В течение более чем века археологи России и Финляндии накопили большую археологическую информацию в виде коллекций предметов, каталогов, полевых отчетов. Археологические памятники раннего Средневековья на Карельском перешейке стали известны благодаря работам П. Т. Швиндта (1851–1917). Будучи уроженцем Ряйсяля (ныне пос. Мельниково Приозерского района Ленинградской области), с самого начала своей деятельности увлекся исследованием истории родного края, проводил в 1891 году раскопки в крепости Кякисалми (совр. Приозерск). Во время путешествия по Карелии собрал богатый материал, частично вошедший в его работы по крестьянским костюмам и карельской вышивке. Его этнографический опыт и глубокие знания в этой области сказались на высоком для того времени качестве публикации карельских могильников [13], но в финляндской литературе в свое время она не получила признания, хотя, по словам К. А. Нордмана [26; 43], ни до, ни после Швинд-та (а мы добавим: и до сих пор) таких обширных раскопок не производилось. Немаловажная работа проделана исследователем по сбору случайных находок, сохраненных его усилиями для науки. Эти находки иногда – единственные упоминания о некогда существовавшем памятнике. Докторский труд исследователя значителен по кругу освещенных вопросов: он содержит довольно подробное описание погребальных обрядов и материальной культуры , мужской и женской одежды, хозяйства и верований. Вопрос о происхождении культуры и ее связях с окружающими регионами Швиндтом не разрабатывался, за что его упрекали современники. С сегодняшних позиций эти потери не кажутся катастрофическими – публикация памятников сохранила свою значимость и пережила многие ранее выдвинутые гипотезы и теории.
Большие работы в Северо-Западном Прила-дожье или в Ладожской Карелии (имеются в ви-
ду территории по северо-западным берегам Ладоги и Карельский перешеек) проводил Я. Аппельгрен (1853–1937; с 1906 года – Ап-пельгрен-Кивало). В 1891 году опубликовал результат большого труда – огромную работу о фортификационных сооружениях (muinaislin-nat) Финляндии, куда включены и памятники Северо-Западного Приладожья [11]. В работе представлены планы и результаты проведенных им раскопок в Куркиеки (Лопотти), Хямеенлах-ти, Суур-Микли, Тиуринлинна (Тиверск) и впервые дано описание укрепленных поселений летописной корелы. Для того времени исследование можно считать образцовым с точки зрения изданного материала и сбора топонимической номенклатуры. К. А. Нордман, анализируя этот период в финляндской археологии, видел причину такого состояния науки в слишком малом числе специалистов-археологов, которым приходилось заниматься многими делами, не имея возможности остановиться на детальной проработке научных проблем [26; 45]. Специализация в финляндской археологии началась с деятельности А. Хакмана и Ю. Айлио.
А. Хакман (1864–1942) – крупнейший знаток древностей железного века. Памятниками Северо-Западного Приладожья он не занимался, за исключением Тиуринлинна, в раскопках которого лично принимал участие. Но для нас важна другая сторона его деятельности – работа над каталогом новых приобретений по железному веку Исторического и Национального музеев, регулярно печатавшихся им в журнале «Finskt Museum» c 1909 по 1925 год. Благодаря заботам Хакмана современные исследователи имеют представление обо всех случайных находках и раскопках в Северо-Западном Приладожье.
Диапазон научных интересов А. М. Талльг-рена (1885–1945) простирался вплоть до Сибири. Он прошел археологическую подготовку в Швеции, затем, заведуя кафедрой археологии в Дерптском университете, организовал археологические исследования и охрану памятников в Эстонии, осуществил свою идею издания ежегодника «Eurasia Septentrionalis Antiqua», посвященного археологии Западной и Восточной Европы. И хотя кипучая деятельность не позволяла ему сосредоточиться на частных проблемах, он провел небольшие раскопки около Выборга и Рауту (совр. Сосново) и посвятил карельской тематике три обзорные статьи.
В плодотворной и разносторонней деятельности К. А. Нордмана (1892–1972) видное место уделено проблематике железного века Карелии. К слову сказать, его вполне справедливо называли кабинетным археологом. В опубликованной монографии [25] высказанные им суждения о происхождении карел, их взаимоотношениях с Новгородом, о влиянии Новгорода на развитие карельской культуры оказались прозорливыми и прогрессивными на фоне некоторого застоя, царившего в финляндской литературе 40-х годов ХХ века.
Позднее он издал несколько статей, посвященных некоторым памятникам древних карел.
Отсутствие планомерных археологических работ в 20-х годах ХХ века в Северо-Западном Приладожье тормозило накопление материала. Обычная практика выявления древностей в то время осуществлялась через проверку поступивших от местных жителей сведений. Лишь в конце 1930 – начале 1940-х годов исследованиями Э. Кивикоски (1901–1990), специалиста по археологии Фенноскандии, внесен существенный вклад в изучение и публикацию древностей Северо-Западного Приладожья. Ею раскопаны погребальные памятники в районе Сортавала и в Саккола-Патья (Ольховка), а также курганы на Олонецком перешейке. К числу заслуг исследовательницы нужно отнести доброкачественную, по сравнению с материалами 1920-х годов, полевую документацию. Кивикоски выполнила грандиозную работу по созданию каталога древностей Финляндии и Северо-Западного Приладожья [17]. В итоге к началу 1939 года в археологических коллекциях Национального музея (г. Хельсинки) третья часть приходилась на изделия из Северо-Западного Приладожья и около 40 % – на предметы каменного века, найденные в Карелии [15; 137].
В 70-х годах ХХ века в Северо-Западном Приладожье отрядом Института археологии АН СССР (теперь ИИМК РАН) под руководством А. Н. Кирпичникова осуществлены раскопки крепости Корела и разведочные работы в Тиверске [5]. С 1970 года и по настоящее время археологические работы ведутся под руководством С. И. Кочкуркиной. За этот период изучались объекты с топонимами «линнавуори» и «линна-мяки», вскрыты большие площади (более 3000 м2) на городищах Тиверск, Куркиеки-Лопотти, Хямеенлахти, Соскуа, Паасо, исследованы могилы островов Риеккала и Мантсинсаари и т. д. [7], [8]. В опубликованных книгах представлены важные результаты полевых исследований, проанализирована богатейшая материальная культура с привлечением данных естественнонаучных дисциплин, охарактеризованы письменные источники и топонимические свидетельства, раскрывающие многообразный историко-культурный фон, на котором происходило зарождение и формирование древних карел.
Большой вклад в создание источниковой базы Северо-Западного Приладожья внес А. И. Сакса, опубликовавший результаты исследования на финском языке [31]. Наиболее результативные полевые исследования осуществлены им в Кууппала – Калмистомяки в 1985– 1987, 1995 годах (вскрыто более 500 м2). На исследованной территории выявлены культурные слои эпохи неолита и раннего металла, 25 погребений X–XV веков, а также предметы из разрушенных погребений. На городище Хямеен-лахти А. И. Сакса в 1987 году исследовал средневековый слой на площади 52 м2. Им раскопан также комплекс Ольховка (169 м2), состоящий из селищ, ритуальных куч и жертвенных камней. При археологических исследованиях территории древней крепости Корела на рубеже 80–90-х годов XX века (раскопки А. И. Саксы и П. Уйно) обнаружены строительные остатки, существовавшие на острове до возведения крепостных сооружений, и, предположительно, следы разрушенных погребений VIII–XIII веков, которые позднее были уничтожены при строительных работах. Территорию Выборгской крепости и ее окрестностей в 1980-х годах изучал А. В. Тюленев, на рубеже XX–XXI веков – А. И. Сакса.
Ю.-П. Таавитсайнен в работе о древних крепостях Финляндии лишь перечислил 25 крепостей Северо-Западного Приладожья, упомянутых в конце XIX века Аппельгреном [34], но позднее [36; 432–434] специально остановился на древних карельских крепостях и подчеркнул трудности, связанные с их классификацией, поскольку сооружались они с разными целями; датированием, так как вещественные доказательства порою скудны и противоречат радиоуглеродным датам; и разным предназначением. Он не верит в былые мифы, согласно которым лин-навуори, расположенные в пределах видимости друг друга, передавали информацию с помощью сигнальных костров, что было доказано опытным путем. Таавитсайнен не согласен с распространенным в литературе мнением, что крепости предназначались для защиты населения со всем его имуществом и скотом – такое переселение в боевой обстановке на крутые возвышенности, по его мнению, связано с большим риском быть сразу всем уничтоженным врагом. Он предполагает, что населению легче было укрыться в лесу, на отдаленных островах и т. д. Но эти рассуждения идут от здравого смысла современного человека и вряд ли адекватны действиям населения в эпоху Средневековья.
В 1997 году вышло археологическое исследование о древней Карелии [38], в котором обобщены все имеющиеся археологические источники по этой теме, приведены различные точки зрения на спорные вопросы. К числу несомненных заслуг П. Уйно можно отнести богатый картографический материал. Ей удалось нанести на топографические карты не только важные археологические памятники, но и случайные находки (этим, к сожалению, активно воспользовались грабители археологических объектов), что российским исследователям по известным причинам сделать было трудно или почти невозможно. Основные позиции исследовательницы изложены в разделах коллективной работы Karjalan synty. Книга написана в научно-популярной форме и рассчитана на массового финского читателя. По этой причине особо акцентируется внимание на вкладе финляндских археологов в историю исследования порою в ущерб заслугам и приоритету российских исследователей.
Научную ценность представляет раздел Х. Симола [33], впервые наиболее полно рассказывающий о карельской природе: растительном и животном мире, о новых палеоэкологических исследованиях в Северо-Западном Приладожье и Карелии. Однако все еще остается неразработанной методика использования данных естественно-научных дисциплин в археологических исследованиях. Проведенные палеоэкологические исследования в районе Сортавала, Куркиеки, Хийтола, на Валааме, Карельском перешейке показали наличие земледелия в I тыс. н. э., но синхронные археологические свидетельства присутствия населения в этом районе отсутствуют.
Большую ценность в книге Karjalan synty представляет диалектологический обзор, в то время как топонимические данные почти не использованы, несмотря на фундаментальные разработки в этой области исследователей Финляндии. Для археологов важны результаты осуществленного недавно в Музейном ведомстве остеологического анализа на материалах археологических памятников (рукопись) [14].
Между тем, несмотря на фундаментальную источниковедческую базу, созданную несколькими поколениями археологов, по ряду существенных вопросов древней истории между исследователями России и Финляндии в силу ряда объективных причин и сложившихся традиций существуют различные точки зрения. Остановлюсь лишь на некоторых из них.
О хронологии и периодизации I–II тыс. н. э. в Европе, Финляндии и России существуют разные понятия. Доистория Финляндии представлена римским железным веком (0–400 гг.), временем переселения народов (400–600 гг.), периодом Меровингов (600–800 гг.), эпохой викингов (800–1025 гг.) и периодом крестовых походов (1025–1200 гг.). Для территории Карелии предлагаются несколько иные даты: средний железный век (300–800 гг.), период викингов (800– 1100 гг.), период крестовых походов (1100– 1300 гг.) [15; 562]. Для древностей Карелии, на наш взгляд, I – начало II тыс. н. э. точнее было бы назвать периодом возникновения Древнерусского государства и формирования этносов на Северо-Западе России. Понимая всю условность названий хронологических периодов, придуманных самими исследователями, видимо, во избежание путаницы на общеевропейском уровне, целесообразнее использовать, где это возможно, датировку по векам.
ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
В отечественной археологии вопросы реконструкции этнических процессов по материалам археологии и смежных дисциплин были всегда актуальными, а в области средневековой археологии почти обязательными. Западные археоло- ги, напротив, относились и относятся к этой стороне археологических исследований весьма настороженно, вполне справедливо ссылаясь на ограниченность археологических источников при попытках воссоздания этноисторических систем (или конструкций). Сумма устойчивых и специфических свойств того или иного народа – язык, самосознание, физический облик, особенности духовной культуры – археологическими источниками не улавливаются, за исключением некоторых остатков материальной культуры. Один зарубежный исследователь даже назвал археологию наукой об отбросах, Л. Н. Гумилев откровенно посмеялся над слепой верой археологов в могущество археологических раскопок, когда они отождествляют творение с творцом и устанавливают аналогии между вещами и людьми [3; 55–61]. Иными словами, большая часть информации безвозвратно утеряна, и археологические данные представляют собой далеко не полные следы человеческого поведения. В 1997 году в Финляндии был организован симпозиум, материалы которого были опубликованы в книге «По тропам Севера. Корни финнов в свете современных исследований» [29]. Ю.-П. Та-авитсайнен сформулировал несколько главных вопросов: меняется ли этнос при изменении культуры? В каких случаях речь можно вести о диффузии, а когда об иммиграции? Как установить корреляцию этнического и материального? Что может служить этническими маркерами? Исследователь приходит к неутешительному выводу: определить их сложно, поскольку археологические культуры не были постоянными, с одной стороны, а с другой – они были мульти-этничными, а сами маркеры – непостоянными, и на практике выявить их почти невозможно [35; 353–358].
Для традиционного направления этноисто-рических исследований характерна мысль, что народы определяет их язык. В результате современные прибалтийские финны всегда рассматривались как говорившие на финно-угорском языке, соответственно, германцы, балты и славяне – на индоевропейских языках. К. Вийк подвергает сомнению эти устоявшиеся взгляды. По его мнению, народ не может определяться по его языку, как ранее представлялось; народы могли изменять свой язык настолько, что те, кого мы сегодня называем прибалтийскими финнами и саамами, прежде говорили на нефинноугорских языках, тогда как современные германцы, балты и славяне в предшествующие тысячелетия могли говорить на неевропейских языках. Вероятно, смена языка была более обычным явлением, чем принято думать. Не следует ли определять народы более по их генетическим и расовым чертам, чем по их языку? [41; 5–6]
Генетические исследования, основанные на митохондриальном и Y-хромосомном полиморфизме ДНК, являются мощным инструментом детального анализа генетической истории чело- века. Но, как считают финляндские исследователи, ответить на вопрос о прародине финнов на современном этапе развития науки генетика пока не в состоянии, поскольку сведения о генах языковых родственников скудны. Выяснение этих обстоятельств зависит от большого числа исторических случайностей. Торопиться с гипотезами не следует, поскольку использована только часть познавательных возможностей этого подхода [27; 297–306].
Несмотря на вышеперечисленные предостережения, по моему мнению, привлечение данных языкознания, топонимики, антропологии, естественно-научных дисциплин и письменных источников на современном этапе исследования не вызывает сомнений, хотя каждая из наук требует к себе особого подхода. Выявление устойчивых комбинаций этнических элементов, с помощью которых можно было бы определить конкретные этносы и которые, надо помнить, не постоянны во времени и пространстве, требует теоретико-методологического обоснования. Все это, по определению, должно минимизировать субъективность исследователей, скорректировать их спорные и некритичные суждения.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНИХ КАРЕЛ
Использование всего спектра источников по этнической истории древних карел позволило создать в общих чертах непротиворечивую картину, но некоторые спорные аспекты существуют, например происхождение племени корела. Этот вопрос долгое время оставался дискуссионным. Существовало несколько точек зрения на происхождение племен, объединенных этнонимом «корела». Представителями гуманитарных наук проделана обстоятельная и кропотливая работа, отклонены и представляют лишь библиографический интерес теории лингвистов и историков XIX века, так же как теории начала XX века о западно-финском происхождении карел. Формированию таких точек зрения способствовали и объективные обстоятельства, прежде всего – отсутствие археологических материалов I тыс. н. э. В последующие десятилетия исследователи, неудовлетворенные такими выводами, главное внимание стали уделять археологическим данным. А. М. Талльгрен, А. Европеус, К. А. Нордман считали мнение о переселении карельских племен с запада на восток необоснованным. Население, оставившее курганы, не могло принимать участие в формировании корелы, хотя наличие контактов корелы и веси отрицать нельзя [6]. По мнению крупнейшего финноугроведа Д. В. Бубриха [1], [2], разработавшего концепцию происхождения и этнического развития народа в XII–XVII веках, корела сформировалась на Карельском перешейке, но различные, пришедшие извне компоненты изменили ее – в IX века она называлась «кирьяла», и, видимо, ее первоначальный состав был иным [8;
сноска 4]. В последние годы в отечественной и зарубежной литературе древних карел рассматривают как качественно новое формирование, возникшее на базе местного, западнофинского, и пришедшего из юго-восточного Приладожья населения. Расхождения наблюдаются в том, какая из составляющих преобладала. Одни полагают, что на формирование корелы оказали воздействие в первую очередь западная Финляндия, Готланд и Новгород; другие признают тесную связь населения Карельского перешейка и юго-восточного Приладожья.
За истекшие десятки лет археологический материал I тыс. н. э., который смог бы существенно пополнить источниковую базу и внести ясность в вопрос о происхождении древних карел, практически не увеличился. По-прежнему исследователи оперируют скудной информацией, добытой еще в конце XIX – начале XX века, что неизбежно приводит к вольным трактовкам.
О ТЕРРИТОРИИ ЛЕТОПИСНОЙ КОРЕЛЫ
Историки, археологи, лингвисты и фольклористы считают, что в XII–XIV веках Карельский перешеек от северо-западных берегов Ладожского озера до северо-восточных берегов Финского залива с городом Корела являлся древнекарельским племенным центром. Этот вывод хорошо согласуется с топонимическими данными. Древнерусские летописи, берестяные грамоты довольно четко определяют территориальные границы корелы. Спорным остается вопрос о включении Миккельских озер (юго-восточная Финляндия, район Саво) в древнекарельский ареал. По традиционно установившемуся мнению, могильники Миккели представляют собой ответвление ладожско-карельской культуры [25; 191–196], [37; 192], [16; 271–272]. Однако позднее, под влиянием результатов раскопок новых, более древних, могильников, которые по своему строению напоминали могилы западной Финляндии, было сделано заключение, согласно которому культура Миккели является сплавом культур хяме и карел [12; 51–62].
Вместе с тем существующие общие черты между памятниками обоих регионов, как в погребальных обрядах, так и в сопровождающих вещах [8; 57–75], позволяют заключить, что их близость нельзя объяснить лишь культурным заимствованием. Речь может идти только о едином этническом регионе. Имеющиеся различия не противоречат этому выводу. Они естественны, поскольку этничность – это весьма изменчивый феномен, подверженный как внутренним, так и внешним влияниям. Естественно, возникает вопрос: по какой причине некая группа (или группы) древнекарельского населения решила переселиться в район Миккельских озер? Одни исследователи полагают, что в Карелии не было избытка населения и не было недостатка в хорошей земле, поэтому переселение в Миккели, где занятие земледелием встречало известные трудности, не обосновано [31; 167–172], [34; 113]. Но нельзя забывать о том, что карелы пользовались разветвленной торговой сетью, охватывающей не только внутренние районы, но и западные и северные земли. Охотничьи маршруты, транзитная торговля через систему озер Сайма, а также по сухопутным дорогам влекли в Саво новых жителей из Карелии [28; 285], [19; 220– 221], [20; 31–32]. О пребывании древних карел на далеких территориях говорят предметы, топонимические данные, письменные источники, предания [8; 35–36, 165–167]. Здесь мы имеем дело с третьей ситуацией, по Барту [13; 14], когда группы занимают различные ниши, обслуживают друг друга и являются взаимозависимыми, что создает немало возможных путей для контактов, в том числе и через торговлю.
В настоящее время исследователи остановились на взвешенной, компромиссной точке зрения, признающей не только древнекарельское влияние на культуру Саво, но и присутствие на этой территории древних карел [34; 105–107, 13], [18; 62–64], [38; 172–174], [15; 441–443], [31; 167–172].
Историко-культурные свидетельства, без сомнения, говорят не только о схожести культур Саво и Приладожской Карелии, объясняемой культурными заимствованиями, но и о едином этническом регионе. Однако территориальная удаленность, другое окружение, политические акции (Ореховецкий договор) привели к изоляции населения Саво, попавшего под власть Швеции. Населению Саво и Приладожской Карелии свойственны общие черты материальной культуры. Занимая промежуточное положение между землями корелы с востока и землями хя-ме с запада, население Саво испытывало влияние с обеих сторон. Тем не менее культура Саво оставалась самобытной, о чем свидетельствуют и археологические материалы. Длительное время она сохраняла первоначальные черты и традиции, но постепенно начала отличаться от культуры Карельского перешейка, а впоследствии и культуры русской Карелии. Усиление потока переселенцев из западной Финляндии в южную часть Карельского перешейка в конце XIII века способствовало распространению западных традиций, восточная граница которых большей частью соответствовала государственной границе по Ореховецкому договору.
Сказанное вовсе не означает, что район Мик-кельских озер был заселен только карелами. Безусловно, здесь проживали и хяме, и в результате этнических взаимовлияний выработалась своя оригинальная и самобытная культура.
Вывод о «карельскости» культуры Саво находит поддержку и в лингвистических материалах: «…есть все основания верить, – считает Х. Лескинен, – что население, переместившееся в Саво, было типично карельским и разговаривало на типично карельском языке». Этому не противоречат некоторые заимствования из языка хяме, прослеженные на западном участке ареала диалекта саво, который по своему основному строению нужно считать продолжателем языка древней корелы [10]. Позднее он убедительно показал, что в восточных диалектах Саво имеется карельский субстрат [21]. Ю. Лескинен полагает, что в окрестностях Миккели ядром древнего Саво являлось первое западное дочернее поселение Ладожского побережья древней Карелии, хотя на этой территории проживали и древние охотники-промысловики, хяме и древние карелы. Несмотря на то что в диалекте саво заметна западная доля, основа языка все-таки древнекарельская. Западные черты не настолько заметны в языке, чтобы считать диалект саво результатом равномерного смешения диалектов хяме и древнекарельского [22; 448–449]. С этим заключением согласен и К. Пиринен, считающий, что у населения южного Саво есть четкие архаичные, указывающие на Ладожскую Карелию, корни, хотя в говорах Карельского перешейка в процессе развития они не сохранились. Он отметил в топонимии Миккели большую концентрацию названий с Karjala. Фамилию Kar-jalainen в самой древней переписи Саво носили 23 семьи; их больше, чем фамилий Hämäläinen и Lappalainen. Он полагает, что на прибывших из Ладожской Карелии указывают названия с vepsä, а на прибывших из-за границы карел – venäjä [28; 272–289]. Концепции о переселении древних карел с северо-западных берегов Ладоги в район Миккельских озер значительно ранее придерживались и другие исследователи [39; 35], [42; 156–160], [40; 33–40].
Кроме саво-карельской группы, известны и другие. По мнению Д. В. Бубриха [1], к XII веку сформировались следующие группы корелы: привыборгская, присайменская, при-ботнийская, корела в центральной части Карельского перешейка и ижора. Все они испытывали этнические влияния, одни в большей мере, другие – в меньшей, у одних преобладали западные элементы, у других – восточные. Именно эти обстоятельства привели к различию в материальной культуре. О «немецкой» городецкой (то есть привыборгской), семидесятской и кобылиц-кой кореле сообщают летописи .
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ
Интенсивные историко-культурные и политические связи Финляндии и Карелии неизбежно связаны с вопросами приобщения к христианству. Зимой 1227 года Ярослав Всеволодович (внук Юрия Долгорукого, отец Александра Невского) двинул свои полки против народа хяме ( емь русских источников), уже попавшего под влияние шведов, и, как сообщает, несколько преувеличивая, Лаврентьевская летопись [9; 449], «всю землю их плени». В том же году произошло крещение карел: «…послав крести множество
Корел, мало не все люди», то есть по распоряжению Ярослава Всеволодовича было крещено почти все население, проживавшее, скорее всего, в центральных районах Северо-Западного При-ладожья. Датский исследователь Д. Линд [23] подверг критике достоверность сообщений Лаврентьевской летописи, в том числе и о крещении карел в 1227 году, по той причине, что новгородские летописи об этом событии не говорят. Это высказывание Линда активно поддержали зарубежные исследователи. Поскольку упоминание о крещении имеется только в Лаврентьевской летописи, создававшейся, по их мнению, в географически отдаленной Ростово-Суздальской земле, стало быть, известие о крещении карел явилось частью православной пропаганды в 1400-е годы. Однако я не могу согласиться с этими доводами. Логике исторических процессов того времени акция по крещению карел не противоречит. Причина, по которой сообщение появилось именно в ростово-суздальской Лаврентьевской летописи, объясняется тем, что Ярославу Всеволодовичу после жестокой борьбы достался Переяславль-Залесский в РостовоСуздальской земле, в Новгороде же он был редким гостем.
Из краткого летописного сообщения непонятно многое: кто осуществлял крещение, каким образом оно происходило. Ясно, что принудительное крещение древних карел диктовалось общеполитическими и военными условиями: целью закрепить власть над населением, нейтрализовать шведское влияние, приостановить распространявшийся с запада католицизм на приграничные новгородские земли. Дальнейшие события показали, что такой способ решения территориальных споров в то время был необходим и оправдан. Согласно Ореховецкому мирному договору, заключенному в 1323 году, государственная граница отторгла западную корелу, попавшую под власть католицизма, шведских порядков и законов, от восточной, новгородской. По-разному сложились и их судьбы. Основная часть корелы, тесно связанная с Новгородом экономическими, политическими и культурными узами, осталась под его властью.
Религиозная сторона массового крещения карел в 1227 году оказалась на втором плане. Естественно, за короткий срок язычество искоренить невозможно. Большая часть населения, видимо, не изменила своих религиозных представлений. В археологических материалах XIII– XIV веков предметы религиозного культа редки. Известна также берестяная грамота середины XIII века, написанная русскими буквами на древнекарельском языке и содержащая языческое заклинание. К тому же и монастыри в Ко-рельской земле возникли не ранее XIV века. Новгородские архиепископы Макарий (послание великому князю Ивану Васильевичу 1534 года) и Феодосий (грамоты 1543 и 1548 годов) были обеспокоены стойким сохранением языческих обрядов у карел и их соседей. Они слали грамоты-инструкции, напоминая многочисленным адресатам – чуди, ижоре, кореле – о необходимости и обязательности соблюдения православных обрядов. Поучала карел и католическая церковь. В середине XVI века финский епископ М. Агрикола в предисловии к «Псалтыри», финскому переводу псалмов, укоряет финнов и древних карел за их пристрастия к языческим обрядам, верованиям и культам.
В Финляндии процесс христианизации проходил иначе. Обращение западно-финского населения в католичество произошло довольно безболезненно, в то время как в восточной Финляндии, где новгородское влияние оставалось сильным, вопрос о проникновении православия остается спорным. Х. Киркинен полагает, что ощутимые контакты с христианской религией происходили в эпоху викингов, поскольку и финны, и карелы находились на пути, связывающем в это время Скандинавию и Византию [4; 26]. Известно, что ранние христианские термины проникли в финский язык из древнеславянского: поп (pappi), поганый, язычник (pakana), крест (risti), кум (kummi), Библия (raamattu). Поэтому Киркинен считает маловероятным, чтобы православие полностью обошло стороной Финляндию, через которую проходил этот восточный путь. Но после установления шведского правления и западной церковной организации следы восточного влияния были сведены к минимуму.
В работе «К вопросу о христианизации Финляндии. Исследование религии на основе археологических данных» П. Пурхонен [30] впервые рассмотрела вопросы религии на археологическом материале. Однако выявление конкретных археологических предметов в качестве христианских символов и мотивов, как и использование археологического материала в целом при освещении вопросов религии, требует научного обоснования. К примеру, могут ли носимые на шее подвески в виде креста быть определенно связанными с христианскими символами? Исследовательница сама признает, что найденные на территории Финляндии подвески были либо скандинавскими, либо восточно-балтийскими, либо новгородскими. Ранние христианские импульсы, по ее мнению, появились в западной Финляндии со стороны Скандинавии. Что касается христианских импульсов из восточной Балтии еще в эпоху викингов, то предположение исследовательницы было почти сразу раскритиковано ее соотечественником Ю. Луото [24], так как в эпоху викингов народы южного побережья Балтии еще оставались язычниками.
Пурхонен считает, что западные христианские погребения в районе Турку появляются в XII веке, хотя языческие могильники с большим количеством погребального инвентаря еще продолжали существовать. В этой связи интересны топонимы, связанные с православным влиянием: г. Турку (от русского торг) и Пааскунта (от рус- ского погост), данные, видимо, купцами-христианами из Новгорода. В южной центральной части Финляндии, на территории Хяме, согласно Пурхонен, христианство было внедрено силой во время так называемого второго крестового похода, то есть около середины XIII века.
На побережье Ботнического залива, в устье р. Кеми, отмечены православные личные имена в названии хуторов и объектов ландшафта по всему течению реки, а также такие названия, как часовня (säässinä), монастырь (manasteri).
Что касается восточной Финляндии, то на таких кладбищах, как Микели, Тууккала, Вису-лахти, датирующихся XII–XIV веками, большинство погребений сопровождалось обильным инвентарем, далеким от христианской обрядности. К тому же в могильнике Висулахти обнаружено жертвоприношение бычка, что не может свидетельствовать в пользу христианства. На могильнике Каускила (XIV–XVI века), где обнаружено несколько языческих погребений, основная масса представлена поздними христианскими захоронениями. В 1500-х годах он был известен как христианское кладбище, позднее на нем была сооружена часовня. Следовательно, эти материалы свидетельствуют о сходной ситуации с христианизацией как на Карельском перешейке, так и в приграничных с Карелией районах Финляндии, хотя Пурхонен утверждает, что территория Миккели была христианизована с запада наперекор Карелии.
Итак, в результате исторического подхода к реконструкции древнекарельского этноса по археологическим источникам с привлечением сведений из области лингвистики и диалектологии, топонимики, антропологических данных и письменных свидетельств удалось воссоздать модель древнекарельского этноса со всеми присущими только ему особенностями материальной и духовной культуры. Зарождение и проявление этноса проходили в определенной историко-культурной обстановке I – начала II тыс. н. э., в конкретных природных условиях и среде обитания, сформировавших особенности поселенческой структуры и хозяйственной деятельности населения. Специфические формы материальной культуры были изменчивы и зависели не только от личных вкусов и пристрастий (особенно это касается женских предметов украшений), но и от активности и географической направленности торгово-культурных связей. Приобщение к христианству внесло свои коррективы в археологический набор признаков. Политические события государственного масштаба (войны, международные договоры и т. д.) приводили, с одной стороны, к усилению самосознания древних карел, подчеркиванию самобытности и защите своих рубежей, а с другой – к изменчивости территориальных границ, исходу карел со своих традиционных мест заселения и, в конечном счете, к существенным изменениям основных маркеров этноса.
ПРИМЕЧАНИЕ
SMYA – Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. Helsinki.
Список литературы Карелия и Финляндия в эпоху Средневековья (историко-культурные связи)
- Бубрих Д.В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск: Госиздат, 1947. 51 с.
- Бубрих Д.В. Русское государство и сформирование карельского народа//Прибалтийско-финское языкознание. Вып. 5. Л., 1971.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Деп. ВИНИТИ. № 1001-79 Деп. Вып. 1.: Звено между природой и обществом. М.; Л., 1-14 марта 1979.
- Киркинен Х. История Карелии с древнейших времен до Ништадтского мира//История карельского народа. Петрозаводск: МП Барс, 1998. 322 с.
- Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л.: Наука, 1984. 275 с.
- Кочкуркина С.И. Рец. на кн.: Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере X-XIII вв.//Советская археология. 1975. № 2. С. 303-305.
- Кочкуркина С.И. Археологические памятники корелы (V-XV вв.). Л.: Наука, 1981. 159 с.
- Кочкуркина С.И. Древняя корела. Л.: Наука, 1982. 215 с.
- Лаврентьевская летопись//Полное собрание русских летописей. М.: Вост. лит., 1962. Т. 1. 578 с.
- Лескинен Х. Карелы и Саво с точки зрения исследователя языка//Происхождение Карелии. Йоэнсуу, 1976. C. 139-148.
- Appelgren Hj. Suomen muinaislinnat//SMYA. 1891. № 12.
- Äyräpää A. Katsaus Savon muinaisuuteen. Viidennet museopäivät Kuopiossa 1938. Helsinki, 1939. S. 51-62.
- Barth F. Introduction//Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organisation of Culture Differencies. Boston, 1969.
- Hedelin H. Osteologisk analys av material fran finska Karelen, nuvarande Ryssland, Museovirasto. Käsikijoitus, 2000.
- Karjalan synty. 1. osa./Ed. Saarnisto M. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy., 2003.
- Kivikoski E. Suomen esihistoria//Suomen historia I. Porvoo, 1961. S. 271-272.
- Kivikoski E. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. Helsinki, 1973.
- Lehtinen L. Mikkelin seudun kalmistot osana Savon varhaishistoriaa//Kalmistojen kertomaa. Rautakautinen Mikkelin seutu idän ja lännen välissä. Mikkeli, 1994.
- Lehtosalo-Hilander P.-L. Esihistorian vuosituhannet Savon alueella//Savon historia I. Kuopio, 1988.
- Lehtosalo -Hilander P. -L. Rautakautinen Mikkelin seudulla//Kalmistojen kertomaa. Rautakautinen Mikkelin seutu idän ja lännen välissä. Mikkeli, 1994.
- Leskinen H. Pohjois-Karjalan murteet -silkkaa Savoa vai katoavaa Karjala?//Carelia rediviva. Joensuu, 1987. S. 77-95.
- Leskinen J. Karjalaisten kielimuotojen alkuperän arvoitus//Karjalan synty. Jyväskylä, 2003.
- Lind J. Sjögrens Häme-teori og de russiske Kraniker//Historisk Tidskrift för Finland. Arg. 62, 1977.
- Luoto J. Suomen varhaiskristillisyyden kokonaisesitys//Muinaistutkija. 1999. № 2. S. 53-57.
- Nordman C.A. Karelska järnaldersstudier//SMYA. 1924. № 34.
- Nordman C.A. Archaeology in Finland before 1920. Helsinki, 1968.
- Norjo R. Mitä geenitutkimus voi kertoa suomalaisista?//Pohjalan poluilla. Suomakaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Helsinki, 1999.
- Pirinen K. Savon keskiaika//Savon historia I. Kuopio, 1988.
- Pohjalan poluilla. Suomakaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Helsinki, 1999.
- Purhonen P. Kristinuskon saapumisesta Suomeen//SMYA. 1998. № 106.
- Saksa A. Rautakautinen Karjala. Joensuu, 1998.
- Schwindt T. Tietoja Karjalan rautakaudesta//SMYA. 1893. № 13.
- Simola H. Karjalan luonto ja ihminen//Karjalan synty. 2003. S. 81-107, 110-115.
- Taavitsainen J. -P. Ancient Hillforts of Finland//SMYA. 1990. № 94.
- Taavitsainen J.-P. Etnisiteetin määrittelyn ongelmat ja savolainen kaskikulttuuri//Pohjalan poluilla. Suomakaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Helsinki, 1999.
- Taavitsainen J.-P. Karjalan muinaislinnat//Karjalan synty. Jyväskylä, 2003.
- Tallgren A. M. Suomen muinaisuus//Suomen historia I. Porvoo, 1931.
- Uino P. Ansient Karelia. Helsinki, 1997.
- Voionmaa V. Suomen karjalaisten heimon historia. Helsinki, 1915.
- Westerholm M. Esihistorianllinen kalmisto Sairilan seudulla Mikkelin pitäjässä//Suomen museo, 36. 1930.
- Wiik K. Forewold//The roots of peoples and languages of Northern Eurasia 1. Tartu, 1998.
- Ylönen A. Jääsken kihlakunnan historia 1. Forssa, 1957.