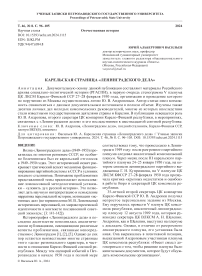Карельская страница «ленинградского дела»
Автор: Васильев Ю.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: IX Андроповские чтения
Статья в выпуске: 8 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Документальную основу данной публикации составляют материалы Российского архива социально-политической истории (РГАСПИ), в первую очередь стенограмма V пленума ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР 27-28 февраля 1950 года, организация и проведение которого по поручению из Москвы осуществлялись лично Ю. В. Андроповым. Автор статьи имел возможность ознакомиться с данным документальным источником в полном объеме. Изучены также десятки личных дел молодых комсомольских руководителей, многие из которых впоследствии стали известными государственными деятелями страны и Карелии. В публикации освещается роль Ю. В. Андропова, второго секретаря ЦК компартии Карело-Финской республики, в мероприятиях, связанных с «Ленинградским делом» и его последствиями в шестнадцатой союзной республике.
Ю. в. андропов, «ленинградское дело», поздний сталинизм, карело-финская сср, пленум вкп(б), комсомол
Короткий адрес: https://sciup.org/147244805
IDR: 147244805 | УДК: 94(47).084.8 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1115
Текст научной статьи Карельская страница «ленинградского дела»
Волна «Ленинградского дела» (1949–1953) прокатилась по многим регионам СССР, но особенно болезненным был ее карельский отголосок в 1949–1950 годах. Этот исторический сюжет раскрывает трагический аспект механизма функционирования партийной системы в СССР в условиях позднего сталинизма. Понимание проблематики представленной темы предполагает использование ломоносовской методологической установки – «уловить дух русской истории». Это позволяет дать научную интерпретацию и осмысление нарратива персональной истории, мотивации «истинных дел» (по терминологии М. В. Ломоносова) исторических персонажей, их мировоззренческой идентичности в контексте послевоенной советской эпохи (см.: [3: 141–142]).
Историография «Ленинградского дела» в последнее десятилетие пополнилась аналитическими публикациями, освещающими различные аспекты проблематики, связанные непосредственно с Ленинградом [1], [2], [5]. Однако до сих пор остаются неизвестными многие страницы этого «дела» регионального характера, в частности в отношении Карело-Финской союзной республики. Между тем сценарий событий в Петрозаводске в начале 1950 года в полной мере соответствовал тому, что происходило в Ленинграде в 1949 году: после разгромного партийного пленума следовал аналогичный комсомольский пленум. Через месяц после III карельского партийного пленума 24–25 января 1950 года, на котором снимали ленинградского партийного выдвиженца Г. Н. Куприянова, на V пленуме ЦК ЛКСМ КФССР 27–28 февраля 1950 года прозвучала критика «крупных недостатков и ошибок» в работе бюро и секретарей ЦК комсомола республики.
35-летний второй секретарь ЦК компартии Карело-Финской ССР Ю. В. Андропов получил непростое персональное задание из Москвы. Ему поручалось провести V пленум ЦК комсомола республики, аналогичный ленинградскому пленуму 12 августа 1949 года, которым руководил секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин. Андропов, как и Шелепин, выступил на пленуме с докладом. Однако, в отличие от разгромного ленинградского пленума, его установка была иная. Она выражалась в позитивной позиции, высказанной Андроповым участникам пленума ЦК комсомола республики: «Имеет смысл договориться о том, чтобы решение пленума было капитальным документом, которое будут обсуждать комсомольские организации»1.
***
Несомненно, Ю. В. Андропов получил четкие инструкции из Москвы. Объяснение можно найти в сталинской установке в отношении комсомола как общественной организации: на ВЛКСМ возлагалась функция пополнения партийного резерва, а также государственных кадров для различных отраслей управления. Главный сценарист «Ленинградского дела» И. В. Сталин рассматривал руководящих комсомольских работников как подготовленное кадровое пополнение. Кроме того, комсомол воспринимался в качестве проводника партийного влияния в отношении молодежи и в этом смысле важного инструмента в руках партии. Для нового поколения молодых партийцев – комсомольских руководителей, воспитанных советской системой, воля власти и антитеза социализма и капитализма воспринимались в качестве обязательного воплощения государственной и общественной скрепы, вера в идеи социализма являлась основой мировоззрения [4: 4–5].
Для Андропова ситуация осложнялась тем, что в руководстве ЦК комсомола республики, руководителем которого он был в 1940–1944 годах, находились его воспитанники. Преемник Андропова в должности руководителя карельского комсомола В. И. Голубев работал шестой год в должности первого секретаря ЦК ЛКСМ республики. В числе выдвиженцев были второй секретарь С. П. Татаурщиков, секретарь ЦК по кадрам М. В. Комиссарова, зав. отделом П. И. Удальцов. Бывший второй секретарь Н. С. Тихонов уже более 10 месяцев работал в аппарате ЦК ВЛКСМ. Все они представляли комсомольское поколение военного времени. Обвинения в адрес каждого из них косвенным образом могли затронуть Андропова, являвшегося, по выражению Марии Комиссаровой, «судьбоносной личностью», поддержка и участие которого во многом определили судьбу каждого2.
Политическая казуистика проявилась в следующем обстоятельстве. На втором пленуме ЦК ВЛКСМ 29 ноября – 2 декабря 1949 года ни в одном выступлении не прозвучали какие-либо комментарии о событиях в Ленинграде в 1949 году. Не упоминалось само название – «Ленинградское дело». Информация не афишировалась в СМИ.
На V пленуме ЦК ЛКСМ Андропов внес предложение об освобождении от должности первого секретаря ЦК ЛКСМ КФССР В. И. Голубева, однако именно он защитил Голубева от предлагавшихся радикальных формулировок в постановлении пленума, которые имели бы гораздо более серьезные последствия для последующей судь- бы комсомольского руководителя. Андропов внес также предложение и убедил пленум избрать новым первым секретарем ЦК комсомола республики своего представителя Сергея Та-таурщикова3.
Следует отметить важное обстоятельство: отправленный в отставку на пленуме преемник Андропова опальный Василий Голубев давал письменные объяснения не следователям из группы московских чекистов, приехавших проводить проверку в Карелии, даже не сотрудникам Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), а первому секретарю ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлову. Фамилия Андропова в показаниях Голубева не встречается. В решении бюро ЦК ВЛКСМ в отношении Голубева зафиксирована формулировка «освободить», а не «снять» (эти формулировки имели разное значение относительно последующей судьбы политического деятеля). О незавидной перспективе опальных деятелей в истории «Ленинградского дела» (аналогичное могло произойти и в отношении Голубева) свидетельствует книга воспоминаний одного из верных соратников А. Н. Шелепина по политической группировке «шелепинцев» («комсомольцев») в партийном и государственном руководстве страны в 1960–1970-х годах Н. Н. Месяцева4. В 1953 году в числе нескольких комсомольских выдвиженцев он получил назначение на должность помощника начальника Следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Им были выявлены многочисленные фальсификации Ленинградских дел [6: 270].
Следует констатировать существенные отличия в кадровых последствиях ленинградского пленума от 12 августа 1949 года и V пленума ЦК ЛКСМ КФССР в феврале 1950 года. В Ленинграде последствия не ограничились снятием с должностей руководителей ленинградского комсомола. Всеволод Иванов погиб в тюремных застенках, его преемник в руководстве ленинградским комсомолом Всеволод Чернецов был осужден на 15 лет по трем пунктам статьи 58, в том числе по обвинению в измене родине. Многие были исключены из партии5. В Петрозаводске в отношении комсомольских руководителей республики не было судебных дел и серьезных партийных взысканий. Представляется, что во многом это заслуга Ю. В. Андропова, имевшего поддержку маленковской партийной группировки, противостоявшей ленинградской партийной группе. После смерти А. А. Жданова Г. М. Маленков вернул свои прежние позиции в ЦК ВКП(б). Решение всех кадровых вопросов в карельском руководстве согласовывалось с «прикрепленным»
представителем Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) С. И. Колесниковым, который получал инструкции из Москвы. В годы войны Колесников был руководителем Челябинского обкома комсомола. Примечательно, что совместная работа Андропова и Колесникова впоследствии имела продолжение (когда в 1957 году Андропов возглавил отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, Колесников был утвержден в этом отделе заведующим сектором).
Сохранившиеся в РГАСПИ архивные документальные свидетельства подтверждают, что материал для открытия дела в карельском комсомоле собирался заранее. Особенно это касалось материалов о поездке и пребывании второго секретаря ЦК ВЛКСМ ленинградца В. Н. Иванова и ленинградской делегации во главе со вторым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ А. Г. Ситниковым на II съезде комсомола Карелии в апреле 1947 года, то есть почти за три года до представленных событий. Внутренняя пружина «дела Голубева» непосредственно связана с «Ленинградским делом». Причем речь идет отнюдь не о формальных биографических совпадениях: родина Василия Голубева – Ленинградская область (деревня Старина Тихвинского района), он закончил сельхозтехникум в Ораниенбауме. В августе 1944 года Голубев стал вторым секретарем ЦК ЛКСМ Карелии, после ухода Ю. В. Андропова на партийную работу его избрали первым секретарем. В 1948 году В. И. Голубев был награжден двумя орденами: орденом «Знак Почета» (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.07.1948 года в связи с 25-летием республики) и орденом Ленина 28.10.1948 года в связи с 30-летием ВЛКСМ. В апреле 1949 года он был делегатом XI съезда ВЛКСМ, выступал на этом съезде, избран членом ЦК ВЛКСМ, в январе 1950 года на III пленуме ЦК компартии КФССР стал членом бюро ЦК. И вдруг произошел стремительный разворот: орденоносца, члена ЦК ВЛКСМ, члена бюро ЦК компартии республики неожиданно для всех снимают с должности и отправляют в Олонецкий район на работу заведующим сельскохозяйственным отделом райсовета.
С чего все началось? 18 февраля 1950 года в ЦК компартии Карело-Финской ССР была получена докладная записка, адресованная вновь избранному партийному руководителю республики А. А. Кондакову. Автор записки Петр Иванович Мартынов с сентября 1949 года работал инструктором орготдела ЦК компартии, до этого был заведующим отделом ЦК комсомола Карелии. Ленинградский след являлся главным обвинением в указанном документе. Все другие факты звучали на этом фоне как второстепенные. По замыслу организаторов пленума, Мартынов должен был задать острый критический настрой работе пленума, основанный на материалах докладной записки. Мартынов был записан на V пленуме в числе первых среди участников прений. Ключевой фразой в его выступлении прозвучало: «Голубев – это маленький Куприянов в комсомоле, он копировал последнего…»6 Опальный бывший первый секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Г. Н. Куприянов, выдвиженец ленинградской партийной организации, в тот период после отставки находился в Москве «в распоряжении ЦК ВКП(б)».
История с докладной запиской Мартынова в партийный орган Карело-Финской республики повторила аналогичный сценарий для активизации дела, который использовался в Ленинграде в 1949 году, – донос второго секретаря обкома ВЛКСМ М. Р. Васьковского на своих коллег. В обоих случаях автором подобного «сигнала» являлся фронтовик, орденоносец, член партии, однако имевший определенные «грехи» в собственном поведении, которые не позволяли отказаться от предложенной сверху функции осведомителя. Петр Иванович Мартынов прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве, имел орден Красного Знамени и два ордена Красной Звезды, медали. При освобождении Донбасса в боях за г. Иловайск совершил подвиг, водрузив под огнем врага красный флаг на вершине господствующей горы. Его именем назвали улицу в Иловайске. Однако заслуженный фронтовик имел нарекания за аморальные поступки в быту.
В условиях инициированной И. В. Сталиным кампании по развитию критики и самокритики поощрялось доносительство: для партийцев данная установка воспринималась как партийный долг, обязанность, для простых граждан – как средство борьбы за интересы страны, республики, области. Отказ от сообщения в партийные органы информации, компрометирующей руководящих работников, или несвоевременное информирование рассматривались как проявления партийной беспринципности и наказуемыми проступками. От органов власти любого уровня требовалась активизация работы с заявлениями, письмами и «сигналами» граждан. Однако нередко обращения граждан в руководящие партийные инстанции по своему содержанию преследовали личную прагматическую цель – наказать (устранить, унизить) неприятелей (конкурентов, соперников, оппонентов).
Данный сюжет описан в воспоминаниях участника пленума С. П. Татаурщикова, избран- ного первым секретарем ЦК ЛКСМ после отставки Голубева:
«…нашу республику не обошло стороной знаменитое “Ленинградское дело”… Как всегда, нашлись люди, которые хотят погреть руки на таких “жареных” вещах. Нашелся один такой и у нас… Написал докладную записку, по-народному говоря – донос, на Голубева, первого секретаря ЦК комсомола республики. Хотя оснований для обвинений не было. Голубев честно трудился, может, уровень немного не дотягивал, но дело ведь не в этом… Вся тяжесть вынужденных кадровых перемещений легла на Андропова»7.
Эмоциональное выступление на пленуме секретаря по кадрам Марии Комиссаровой (она выступила в первый день пленума после перерыва) нарушило запланированный андроповский сценарий пленума. Она обрушилась с резкой критикой в адрес недавнего своего коллеги по работе в аппарате ЦК ЛКСМ Петра Мартынова:
«Я его знаю давно как комсомольского работника и скажу, что я раньше не представляла его таким. Меня удивило его выступление. Приведенные им факты мне не известны. Я никак не могу простить Мартынову, что он знал об этих фактах и молчал, будучи секретарем партийной организации. Я должна сказать, что он был подхалимом и продолжает занимать такую же позицию… Сегодня я тебя вижу критикующим в тот момент, когда ты чувствуешь поддержку в ЦК партии, и я уверена, что ты не вылез бы на трибуну с критикой, если бы не чувствовал поддержку со стороны ЦК партии. Все это методы достижения высокой карьеры, я просто прозрела после твоего выступления»8.
Выступление Марии Комиссаровой было бескомпромиссным и смелым. Более того, оно не соответствовало неписаным номенклатурным правилам. Она заявила о недостатках партийного руководства со стороны ЦК компартии республики:
«Я всю свою жизнь после окончания средней школы работала в комсомоле. Начала работать, когда нашу работу возглавлял тов[арищ] Андропов. Партия учит, что комсомол должен работать под руководством партии. По-моему, ошибки, которые допустило бюро ЦК комсомола, могут объясняться тем, что партийная организация не помогла вовремя вскрыть эти недостатки. Почему тов[арищ] Голубев возглавлял нашу организацию, учил нас, а на 6-й год ему говорят: ты не способен работать. Это для меня не понятно. Я считаю, что партийные органы не совсем правильно вели себя по отношению к нам, не помогли вовремя разобраться в ошибках и недостатках»9.
Вероятно, со времени учебы в Центральной комсомольской школе (ЦКШ)10 в сознании Марии было сформировано убеждение, что критика и самокритика лишь тогда представляют собой эффективное средство воспитания кадров, когда они проводятся не от случая к случаю, а постоянно, систематически. Комиссарова напомнила, как Мартынов на каждом бюро ЦК говорил Голубеву: «Василий Иванович, правильно, я так и думал»11. Поэтому она считала правомерным, чтобы пленум потребовал объяснений от Мартынова, почему он не вскрыл раньше все факты в отношении Голубева. Мария Комиссарова обратилась и к Андропову:
«Я считаю, что он и у Вас, товарищ Андропов, допустил подлость, не дал возможности вскрыть эти ошибки и недостатки на пленуме ЦК партии… стоило ли Голубева вводить в состав бюро ЦК партии? Очевидно, Мартынов не информировал ЦК партии, и мы сейчас в заблуждении, что оказались перед таким фактом. Я затрудняюсь расценивать это явление, мне не понят-но…»12.
Огонь критики со стороны секретаря ЦК по кадрам обрушился также в сторону моральных качеств Мартынова:
«Ты сегодня не сказал, что думал сделать, чтобы воспитать ребенка у тебя, который появился на свет. На бюро Мартынов вел себя неправильно, заявив, что он не уверен, что это его ребенок. Это нечестное отношение к ребенку – это я бы сказала как член бюро»13.
После речи Комиссаровой практически каждый участник прений критически оценивал Мартынова – его работу в комсомоле, личные качества. Апофеозом стало яркое выступление члена ЦК ЛКСМ Екатерины Варфоломеевой. Она потребовала от Мартынова оказать помощь ребенку: «Мартынов пытается отказаться, что это ребенок не его. Товарищ Мартынов, есть живые свидетели, что ребенок ваш. Несмотря на то, что ребенку только 10 месяцев, говорят, что и характер у него ваш»14. Варфоломеева заявила, что Мартынов «по-хамски относится к девушкам», «без интимной связи между девушкой и юношей он не представляет отношений», «девушкам, которые отказывались удовлетворить его требования “дружбы”, Мартынов прямо заявлял: нечего и время тратить и кровь портить»15. Екатерина публично призналась, что подобное
«хамское заявление сделал он в отношении меня, когда на практике ему не удалось проверить, возможны ли чистые, дружеские отношения с девушками. Он сказал, мне стыдно говорить при всех: “Во имя чего ты себя бережешь? Чем я плохой парень?”»16.
Ю. В. Андропов оказался в неожиданной ситуации. Его доклад состоялся в завершение пленума 28 февраля 1950 года. Больше всех досталось Марии Комиссаровой, поскольку она фактически сломала запланированный андроповский сценарий пленума. Андропов заявил:
«Комиссарова выступала с явной позиции заглушить критику на пленуме… Комиссарова говорила, что она считает поведение Мартынова непартийным, некомсомольским и пыталась со всех позиций зайти в адрес Мартынова. Она говорит, что выступает как коммунист, как секретарь ЦК комсомола и просто как человек. Со всех сторон заходит, чтобы отстрелить Мартынова. Только с одной стороны не дошла. Если бы она как коммунист отнеслась к выступлению Мартынова, то она сказала бы, что он совершенно правильно поставил ряд острых вопросов, показал деятельность ЦК комсомола, его бюро и его секретарей»17.
По мнению Андропова,
«Комиссарова выступала неправильно. Это можно расценивать, как попытку заглушить критику, ослабить постановку вопроса со стороны Мартынова»18.
«Комиссарова не дошла до постановки вопросов, как это сделал Мартынов теперь, и пытается тем самым увести пленум от критики своих недостатков. Поэтому я считаю, что и сегодня на пленуме мы не имели нужной критики, мы имеем товарищей из ЦК комсомола, которые старались заглушить критику»19.
Одновременно Андропов был вынужден признать, что Мартынов действительно допустил «непартийное поведение» в быту, при этом уточнил, что с Мартыновым по этому поводу была проведена беседа, это его «слабое место и за это его правильно щелкали»20, и дело пленума разобраться с Мартыновым в отношении обвинений, которые ему предъявлялись. Фраза «он у меня на заметке давно по этим делам» не могла не вызвать улыбки у участников пленума. В результате общего голосования, несмотря на поддержку Андропова, инструктор орготдела ЦК компартии республики Петр Мартынов был исключен из состава ЦК комсомола республики «за аморальное поведение в быту»21.
В истории республики ни до, ни после не было подобного пленума. Руководители комсомола Карело-Финской ССР критически оценивали не только собственную работу и деятельность своих коллег по ЦК комсомола республики, но и открыто критиковали партийных руководителей, включая Андропова, для многих из которых он был наставником и учителем. Татаур-щиков высказал свое мнение: «Много мыслей исходило от вас. Разве сейчас вы утеряли эту способность? Вы можете для нас многое сде-лать»22. Андропов ответил: «Товарищ Татаурщи-ков обижался на меня, что я должен был оказывать помощь ЦК комсомола, но не оказывал ее, принимаю эту критику, так как это вполне спра-ведливо»23. В данном случае он принял критику, хотя мог бы этого не делать. Дело в том, что согласно распределению обязанностей в ЦК КП(б) республики вопросами комсомола ведал первый секретарь. Второй секретарь Ю. В. Андропов персонально отвечал за работу промышленно- сти. Тем не менее он, как бывший руководитель комсомола республики, внимательно воспринял критику комсомольских руководителей в свой адрес и отреагировал на нее. Позднее по его инициативе в повестку IV партийного пленума ЦК (30–31 мая 1950 года) был включен вопрос «О состоянии и мерах по улучшению работы республиканской комсомольской организации». Андропов выступил с докладом.
В один день, 17 марта 1950 года, произошли три события, связанные с Карело-Финской республикой. Первое – был арестован Г. Н. Куприянов. В 1950–1956 годах он находился в лагерях и тюрьмах по «Ленинградскому делу». В этот же день состоялось бюро ЦК ВЛКСМ, на котором рассматривался вопрос «О крупных недостатках в работе бюро и секретарей ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР». Комсомольский руководитель Карелии Василий Голубев лишился должности и был отправлен на работу в район. Но его не постигла трагическая судьба ленинградца Всеволода Иванова. Можно предположить, что Василий Голубев получил совет старших коллег, как правильно вести себя в этой ситуации, которая могла оказаться для него роковой (вероятно, это были рекомендации в первую очередь от Андропова: внимательное прочтение докладной записки Голубева позволяет заметить, что в тексте явно прослеживается андроповская стилистическая правка). За внешне сумбурным изложением в записке Голубева множества конкретных деталей поведения хлебосольного карельского руководителя, встречавшего ленинградских гостей комсомольского съезда в 1947 году, заслонялись поводы для предъявления ему обвинений в осознанном стремлении к сотрудничеству с ленинградцами, после взлета оказавшимися в опале. Что удивительно, никаких резолюций для сотрудников аппарата ЦК ВЛКСМ руководитель комсомола страны Н. А. Михайлов не оставил.
Наконец, 17 марта 1950 года секретариат ЦК ВЛКСМ освободил от должности ответственного организатора ЦК ВЛКСМ Н. С. Тихонова. Данное решение ограничилось формулировкой об освобождении без указания каких-либо причин, что было необычным явлением в практике того времени. Николаю Тихонову, более 10 месяцев отработавшему в аппарате ЦК ВЛКСМ (с мая 1949 года), не были предъявлены обвинения. Он стал жертвой обстоятельств. Старшие товарищи из аппарата ЦК ВЛКСМ, участники тех событий, получили более мягкие взыскания – выговоры. В их числе оказались В. И. Васильев (заворг ЦК ВЛКСМ), И. С. Федоров (зам. зав. особым сектором), А. А. Жихорь (зам. зав. от- делом комсомольских органов), Г. Н. Захаренков (ответорг).
Что же было причиной этих событий? На V пленуме ЦК ЛКСМ КФССР 27–28 февраля 1950 года отдельные члены ЦК неожиданно вспомнили о бывшем втором секретаре ЦК комсомола республики Н. Тихонове. Несомненно, это не было случайностью, акция была задумана и спланирована заранее. Н. Тихонов являлся одним из наиболее близких воспитанников Андропова (по свидетельству современников – любимым). Инициатором критики выступила зав. отделом комсомольской жизни газеты «Молодой большевик» Зинаида Павлова, которая до ноября 1948 года работала в аппарате ЦК ЛКСМ. Она неожиданно припомнила некоторые факты из военного и послевоенного времени (1942– 1948), когда Тихонов работал сначала инструктором ЦК по работе с молодежью партизанских отрядов, затем секретарем по военной работе, секретарем по кадрам, вторым секретарем ЦК комсомола республики. В ряде случаев Павлова никак не могла быть ни свидетелем, ни очевидцем событий прошлого. Не стесняясь в выражениях, она заявила: «Чем занимался Тихонов, когда работал инструктором ЦК комсомола? Он вместе с тов. Андроповым ездил по отрядам, частям и прислуживал тов. Андропову»24. Подобное утверждение было откровенной клеветой. Вероятно, партийному руководителю Ю. В. Андропову было неприятно услышать подобные нелицеприятные и безосновательные суждения. Летом 1942 года 20-летний помощник комиссара первой партизанской бригады по комсомольской работе Николай Тихонов участвовал в известном трагическом 57-дневной рейде бригады по тылам противника, был дважды ранен, выжил, получил заслуженную награду – орден Красной Звезды. В ЦК комсомола республики успешно работал с молодежью партизанских отрядов.
К критике Зинаиды Павловой подключились бывший первый секретарь Петрозаводского горкома комсомола Петр Сорокин и бывший секретарь ЦК ЛКСМ по пропаганде и агитации Петр Соколов. Они добавили еще несколько обвинений в отношении Тихонова. Почему мы называем их «бывшими»? Сорокин еще в июне 1949 года был освобожден от руководящей должности «за поведение, недостойное комсомольского работника» – аморальные проступки25. По каким-то причинам из состава ЦК комсомола его не исключили, поэтому он принимал участие в V пленуме ЦК ЛКСМ. Соколов же был снят с должности (не освобожден, а именно снят)
решением секретариата ЦК ВЛКСМ 30 января 1950 года за «недостойное поведение»26. Это было просто вопиющее событие («позор» для Карелии, по словам Андропова), случившееся буквально через несколько дней после разгромного III пленума ЦК компартии республики, на котором снимали партийного руководителя Куприянова. Дело в том, что осенью 1949 года во время 9-месячных курсов в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ Соколов систематически пьянствовал, запутался в долгах, растратил членские партийные взносы, собранные им со слушателей курсов. 26 декабря 1949 года он потребовал у сожительницы (в Москве встретил землячку) тысячу рублей для внесения в партийную кассу школы, предлагая ей в залог партийный билет. Угрожал ей, что если она не даст деньги, то пустит себе пулю в лоб. Умудрился взять в долг и не вернул деньги даже секретарю ЦК Союза рабочей молодежи Ру-мынии27. Поскольку Соколов не был исключен из состава ЦК комсомола республики, он так же, как и Сорокин, участвовал в V пленуме ЦК ЛКСМ. В подобной ситуации работа пленума должна была начаться с решения организационных вопросов об исключении из состава ЦК проштрафившихся бывших руководителей, однако этого не произошло. На то были свои причины.
От ЦК ВЛКСМ на пленуме присутствовал зам. зав. отделом В. М. Беляков. Он заявил: «Я думаю, что надо разобраться детально в отношении Тихонова. Нельзя решать вопрос о его работе. Никто укрывать его не будет»28. После пленума в ситуации, сложившейся в Карело-Финской ССР, разбирались работники ЦК ВЛКСМ во главе с А. Н. Шелепиным (буквально за неделю до пленума в Петрозаводске 21 февраля 1950 года он был утвержден вторым секретарем ЦК ВЛКСМ, до Шелепина эту должность занимал ленинградец В. Н. Иванов в 1945–1949 годах). В 1950 году 15 сотрудников ЦК ВЛКСМ находились в командировках в Карелии в общей сложности 284 дня, в том числе Шелепин – 13 дней, Беляков приезжал трижды (18 дней, 10 дней, 21 день). Ответорг по Карело-Финской ССР Поленов дважды побывал в республике29. В отношении Н. Тихонова была подготовлена записка с обвинениями, прозвучавшими на V пленуме. Из четырех пунктов ключевым был сюжет, связанный с приездом ленинградской делегации на II съезд ЛКСМ КФССР в апреле 1947 года. По распоряжению Н. А. Михайлова Тихоновым была подготовлена объяснительная записка. Николай Тихонов вернулся в Карелию, пришел за советом к Андропову. По словам Станислава Николаевича Тихоно- ва, сына Н. С. Тихонова, Юрий Владимирович сказал: «Надо начинать все сначала!» Тихонов отправился работать в Питкярантский район зав. сельхозотделом райисполкома (до войны он окончил сельхозтехникум). Совет Андропова был реализован сполна. В 1967 году Н. С. Тихонов стал секретарем Карельского обкома партии и около двух десятилетий успешно работал в этой должности. Награжден, помимо военных орденов Красной Звезды и Отечественной войны I степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, двумя орденами «Знак Почета».
Для сотрудников А. Н. Шелепина – В. М. Белякова и Ю. А. Поленова – работа в Карело-Финской республике стала своеобразной школой для будущей важной государственной деятельности. В ЦК ВЛКСМ Беляков работал помощником первого секретаря, зав. особым сектором, зав. общим отделом. В период шелепинского руководства госбезопасностью Владимир Михайлович Беляков был начальником Секретариата КГБ при СМ СССР (23 марта 1959 – 9 ноября 1961 года). Когда Шелепин возглавил влиятельный орган – Комитет партийно-государственного контроля СССР, Юрий Алексеевич Поленов был утвержден зам. председателя (до мая 1975 года он занимал должность зам. председателя Комитета народного контроля СССР).
Для Ю. В. Андропова на комсомольском пленуме возникла еще одна весьма деликатная и щекотливая ситуация, связанная с обязанностью поддержки отдельных так называемых национальных кадров в союзной республике. Полностью признавший персональную критику со стороны Андропова Василий Голубев в заключительном слове на пленуме обратился к нему:
«Товарищ Андропов, Соколова выдвигали по инициативе ЦК партии, по вашей лично инициативе и насиловали меня перед съездом в кабинете Куприянова. Были Куприянов, вы и Логинов. Мне приписали недооценку выдвижения национальных кадров на руководящую работу. Я заявлял, что мы не знаем Соколова, что я лично возражаю против выдвижения Соколова. Я на себя этого не принимаю, примите вы на себя, товарищ Андропов»30.
Не только Соколов подвел своих партийных руководителей, но также секретарь ЦК комсомола по работе со школьной молодежью и пионерами Ольга Терво, которую Андропову пришлось защищать от резкой критики на пленуме. Ее анкетные данные для работы в аппарате ЦК ЛКСМ подходили идеально: этническая финка, член ВКП(б), имела высшее образование (закончила МГПИ им. Ленина), была делегатом
XI съезда ВЛКСМ. Ранее, на пленуме в апреле 1949 года, Андропову с большим трудом удалось убедить его участников дать возможность Терво для исправления недостатков в работе. Однако через несколько месяцев, 10 июля 1950 года, она была освобождена как «не справившаяся с работой». Чтобы сохранить статус союзной республики, партийным руководителям приходилось проводить подобную официальную линию. Именно этим обстоятельством объяснялась, по сути, вынужденная и незаслуженная поддержка Андроповым карела Соколова и финки Терво.
Кроме национального фактора было еще одно серьезное обстоятельство. Образовательный уровень комсомольских кадров республики в послевоенные годы был крайне низким. Из секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ республики лишь 5 % имели высшее и незаконченное высшее образование, 95 % – среднее и неполное среднее. В составе 258 руководящих комсомольских работников 151 человек не имел среднего образо-вания31.
За кулисами V пленума ЦК ЛКСМ КФССР скрывалась внутренняя тайная интрига. Помимо второго секретаря ЦК компартии республики Ю. В. Андропова в нем принимал участие еще один партийный руководитель республики – член бюро ЦК КП(б), зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов М. Ф. Королев. Можно высказать вполне обоснованное предположение, что выступления отдельных участников на комсомольском пленуме против Андропова объяснялись его личной поддержкой. Сорокин, Соколов, Павлова могли получить обещания, связанные с решением их жизненных ситуаций. Для этого у руководителя ключевого отдела главного партийного органа республики, ведавшего кадровыми вопросами, были немалые возможности. Критика указанных участников пленума была обеспечена подборкой конкретных компрометирующих фактов за несколько лет, на составление которой требовалось время и наличие документальных материалов с конфиденциальной аппаратной информацией. Примечательно также использование в их выступлениях отдельных фраз и речевых оборотов, характерных и любимых партийным функционером Королевым.
Примечательно также, что через несколько дней после V комсомольского пленума, 4 марта 1950 года, в ЦК ВКП(б) из Петрозаводска был отправлен донос анонимного «т. Петрова» на Андропова. Как выяснилось в ходе нашего расследования, автором «сигнала» являлся именно Королев32. 21 апреля 1950 года на заседание
Секретариата ЦК ВКП(б) был вынесен вопрос: «Заявление т. Петрова о секретаре ЦК КП(б) Карело-Финской ССР т. Андропове».
В аппарате ЦК КП(б) КФССР Королев, будучи секретарем партбюро, распространял информацию «об избиении руководящих работников». Эта кампания была направлена в первую очередь против второго секретаря Ю. В. Андропова. На бюро ЦК КП(б) 27 апреля 1950 года было принято решение об освобождении Королева от обязанностей заворга ЦК компартии Карелии. Одним из поводов послужила информация о том, что он скрыл факты личной связи с Куприяновым после отставки бывшего партийного руководителя.
В мае 1950 года на IV пленуме ЦК КП(б) КФССР прозвучали обвинения в адрес Ю. В. Андропова со стороны некоторых его партийных коллег. По воспоминаниям его современников – молодых партийных работников – время было «тяжелое»:
«Иногда нам казалось: “Все! Добили Юрия Владимировича…”. Но стоило ему подняться на трибуну, и хотя он не касался критикующих, их прямых обвинений, эти критические замечания отлетали от него как горох от стенки. Мы, молодые партработники, улыбались. Смотрели друг другу в глаза, радовались…»33.
Как свидетельствуют архивные документы, главными обвинителями Андропова на партийном пленуме в мае 1950 года выступили члены ЦК компартии республики: М. Ф. Королев (освобожденный от должности зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК) и И. С. Яковлев (бывший зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б), ректор Карело-Финского государственного университета). Главное их требование в отношении Андропова сводилось к тому, что он должен понести бóльшую ответственность, обвинители считали невозможной его работу вторым секретарем ЦК КП(б). Многие факты, предъявленные в качестве вины Андропова, звучали ранее на V пленуме ЦК ЛКСМ.
Изучение дела продолжалось до осени 1950 года. На V пленуме ЦК КП(б) республики 26–27 сентября 1950 года были доложены результаты проверки, проведенной специально созданной комиссией под руководством секретаря ЦК КП(б) И. И. Цветкова. В постановлении пленума указано, что материалы проверки, проведенной комиссией, уполномоченной IV пленумом, по поводу конкретных обвинений в адрес Ю. В. Андропова, «не вносят каких-либо существенных дополнений к тому, что было известно и подвергнуто обсуждению…»34
По итогам проведенного отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) в течение пяти с половиной месяцев расследования 7 октября 1950 года секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову была представлена итоговая докладная записка. Обвинения в отношении Андропова не подтвердились. Рассмотрение вопроса закрыли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа Ю. В. Андропова в Карелии не только обусловила его формирование как перспективного политического деятеля, дала уникальный опыт руководящей работы, но и олицетворяла собой школу выживания в суровые годы позднего сталинизма, в условиях непримиримого противоборства партийных группировок в политической системе. В качестве одного из партийных руководителей Карело-Финской республики Андропов оказался в фокусе противостояния политических элит в 1949–1950 годах и сыграл в нем отведенную ему роль. Он выполнил задание, которое было ему поручено в Москве: на партийном и комсомольском пленумах продемонстрировать единодушное одобрение решений, принятых центральными органами партии. При этом никто из руководителей комсомола республики не только не был репрессирован, но и не получил партийного взыскания.
Список литературы Карельская страница «ленинградского дела»
- Амосова А. А., Бранденбергер Д. Новейшие подходы к интерпретации "Ленинградского дела" конца 1940-х - начала 1950-х годов в российских научно-популярных изданиях // Новейшая история России. 2017. № 1. С. 94-112.
- Ваксер А. З. "Ленинградское дело". Итоги изучения и новые аспекты. СПб.: Европейский Дом, 2012. 48 с.
- Васильев Ю. А. Идеи М. В. Ломоносова в русской исторической школе // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 2. С. 141-148.
- Васильев Ю. А. Очень странный российский капитализм // Власть. 2011. № 9. С. 4-6.
- Гижов В. А. "Ленинградское дело" в отечественной историографии // Россия - СССР - РФ в условиях реформ и революций XX-XXI вв. Саратов: Амирит, 2016. С. 55-58.
- Месяцев Н. Н. Горизонты и лабиринты моей жизни. М.: Вагриус. 2005. 624 с.