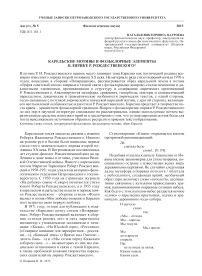Карельские мотивы и фольклорные элементы в лирике Р. Рождественского
Автор: Патроева Наталья викторовнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конфиренции
Статья в выпуске: 5 (150), 2015 года.
Бесплатный доступ
В поэзии Р.И. Рождественского важное место занимает тема Карелии как поэтической родины всемирно известного лирика второй половины ХХ века. На материале ряда стихотворений начала 1970-х годов, вошедших в сборник «Возвращение», рассматривается образ карельской земли в поэзии «Орфея советской эпохи» впервые в тесной связи с фольклорными жанрово-стилистическими и диалектными элементами, проникающими в структуру и содержание лирических произведений Р. Рождественского. Анализируются метафоры, сравнения, гиперболы, повторы и синтаксический параллелизм, лексические и грамматические особенности лирических текстов, с одной стороны, тесно связанные с поэтикой лирической и эпической народной поэзии, с другой стороны, являющиеся неотъемлемой особенностью идиостиля Р. Рождественского. Карелия предстает в творчестве поэта краем - хранителем фольклорной традиции. Вопрос о фольклоризме лирики Р. Рождественского до сих пор в научной литературе специально не рассматривался, однако используемые поэтом выразительные средства позволяют прийти к заключению о том, что устная народная поэзия была для поэта неиссякаемым источником образных ресурсов и приемов текстообразования.
Поэзия, литературный фольклоризм, фольклорные мотивы, образ карелии
Короткий адрес: https://sciup.org/14750935
IDR: 14750935 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Карельские мотивы и фольклорные элементы в лирике Р. Рождественского
Карельская земля навсегда связана с именем Роберта Ивановича Рождественского. Именно на родине рун и былин были написаны первые стихи этого замечательного лирика второй половины ХХ века. В Петрозаводске послевоенных лет студент-филолог Рождественский жил на пр. Ленина в доме мамы и отчима, участника Великой Отечественной войны. Вместе с карельским поэтом Маратом Тарасовым Роберт Рождественский в 1950–1951 годах учился на историко-филологическом отделении Петрозаводского госуни-верситета. С 1950 года на страницах журнала «На рубеже» (ныне «Север») печатаются стихи юного Роберта Рождественского, а в 1955 году в карельском издательстве вышли и первые книги Рождественского – сборник стихов «Флаги весны» и поэма «Моя любовь» (именно в Карелии поэт встретил свою первую любовь).
В 1971 году, готовя для публикации в издательстве «Карелия» книгу стихов «Возвращение», Роберт Рождественский включает в сборник «стихов разных лет» и пять лирических миниатюр с узнаваемыми заглавиями и зачинами: «Кижи», «На Юсовой горе», «Росстани» («Северное название для перекрестков – росстани…»), «Банный день» («Прямо над Онегою – десять бань…») и «Мы стоим перед Кижским собором одни…» – на некоторых из них мы специально остановимся в связи с темой Карелии, а также проблемой влияния творчества карельских сказителей на лирику Рождественского.
Стихотворение «Кижи» открывается вполне прозрачной реминисценцией:
Да, сначала было слово!.. [9; 174].
Подобная отсылка к началу Евангелия от Иоанна вполне закономерна для стихотворения, посвященного острову с известными всему миру деревянными церквями. Не случайно следующая далее метафора («Зоревая позолота / облетела с небосклона»), создающая яркий, необычный образ зари, включает слово «позолота», ассоциативно связанное с куполами православных храмов, напоминающими озаренные солнцем небеса. Как будто с этих куполов-небес раздается вечное «слово» о карельских крестьянах, зодчих и хранителях деревянного чудо-собора:
И звучало слово так:
«Мы – отсюда.
Мы – карелы.
Мы тонули.
Мы горели.
Мы до старости старели.
Нас не купишь за пятак.
Камни пашем.
Камни сеем.
Сердце тешим горьким зельем, рыбою да хлебом серым, – так от века суждено.
Ну, а если в землю канем, нас укроют тем же камнем.
Нас укроют.
Как зерно…» [9; 174–175].
За этими строками перед читателем встает образ крепкого, бывалого, мастерового северного народа. Мотивы камня, зерна, хлеба также насыщены многочисленными библейскими и былинно-сказочными аллюзиями. Эпитет серый помогает сблизить в контексте образы хлеба и камня (серого озерного валуна, каменного надгробия на погосте). Зерну, упавшему в землю и поднявшемуся колосом сквозь камни и холодную северную землю, уподобляется в стихотворении Р. Рождественского сначала человек – богатырь, хлебопашец и зодчий, упрямо преодолевающий все невзгоды, а затем Кижский собор:
Час настал.
Зерно упало.
Запахом земли пропахло.
Не сопрело.
Не пропало.
И вздыхая тяжело, продиралось сквозь каменья, говорило:
«Я сумею!..» повторяло:
«Я сумею!..»
И сумело.
И взошло.
Не березкой кособокой. не цветочком беззаботным, а взошло оно собором возле медленной воды [9; 175].
Кижский храм сравнивается с человеком, наделяется душой и способностью плакать, разливающейся звоном зарей, плавающим на озере кораблем и плещущейся в воде рыбой, плодоносящим и заполняющим мир мифологическим древом жизни:
Он стоял легко и крупно.
К облакам вздымаясь кругло, будто спелые плоды.
Был легендой он и благом.
Так стоял, как будто плавал.
Так звенел, как будто плакал, – (словно плакала душа).
Он стоял, сравнясь с зарею, над холодною землею деревянной чешуею, будто листьями, шурша.
Он покачивался плавно, многостенно, многоглавно, – ширь – налево и направо! Щуки плещутся в тиши… Он стоял, слезу роняя, мир собою заполняя, в землю уходя корнями… Так и выросли Кижи [9; 175–176].
Поэт поддерживает этот богатый ассоциативно-символический ряд («парадигму образа», в терминах Н. Павлович [5]), живописуя Кижский собор с помощью окказиональных наречий-эпитетов: «многостенно» и «многоглавно», метафор: «покачивался», «в землю уходя корнями», «выросли», сравнений: «будто спелые плоды», «будто листьями шурша», «словно плакала душа», олицетворений: «слезу роняя», «как будто плавал», «как будто плакал», с использованием непривычной сочетаемости: «стоял легко и крупно», «вздымаясь кругло», «деревянной чешуею». Повторы слов, звуков, синтаксический параллелизм, выстроенный то «лесенкой», то «столбцом» стих – все создает картину раскинувшегося над Онегой чудо-храма, с симметрично-правильными и гармоничными пропорциями, красивым звоном, сливающимся с плеском волн.
Стихотворение «На Юсовой горе» переносит читателя в другой уголок Карелии – на родину известной всему миру сказительницы и вопленицы Ирины Андреевны Федосовой. Произведение открывается неким предисловием-эпиграфом, в котором автор сообщает читателю о последнем пристанище своей героини: «Могила И. А. Федосовой до сих пор не найдена. Знают только, что знаменитая народная сказительница похоронена в Заонежье, на кладбище села Кузаранда». Эти строки, написанные в начале 1970-х годов и звучащие с такой пронзительной болью, теперь знающим читателем воспринимаются как документ эпохи, поскольку усилиями поэта и энтузиаста Марата Тарасова примерно десять лет спустя после создания стихотворения все-таки удалось найти могилу И. А. Федосовой на кузарандском погосте, а Роберт Рождественский помог собрать для этого необходимые материальные средства.
Используемое в зачине усеченное относительное прилагательное сразу же переключает стили- стический регистр произведения, создавая ореол былинно-песенной старины:
Возле озера сгнила оградка тесова.
На горе – деревянных крестов разнобой… [9; 177].
Лирический герой Рождественского уважительно, используя фольклорную формулу, обращается к карельской плакальщице «Ирине Андреевне свет-Федосовой» с призывом спеть про трудную судьбу олонецких крестьян, чтобы плачем пробудить не только сочувствие, сопереживание простому народу, но и достоинство, гордость в душе самого извечно терпящего горести «безголосого» труженика:
Спой,
Ирина Андреевна, свет-Федосова!
Про крестьян Олонецкой губернии спой…
Научи их словам, дай им собственный голос. тем, которые, – ежели полночь страшна, – медяком похваляясь, в беде хорохорясь, по-звериному воют над чаркой вина… [9; 177–178].
Поэт, просящий «вытницу» оплакать и пожалеть униженных и обиженных, дать им «собственный голос», уверен, что плач этот – не только утешит и утолит печали, объявит во всеуслышание о нуждах страждущих, но и спасет, подобно тому как вера в Спасителя поддерживает в людях надежду на лучшее:
Ты спаси их.
Спаси от извечной напасти.
Ты их выпрями, выправь, людьми назови.
Ведь не зря по России – всё Спасы да Спасы. На Терпении Спас.
На Слезах.
На Крови… [9; 178].
То, что лирический герой так настойчиво уговаривает свою героиню, напрямую связано с реальными фактами из воспоминаний фольклористов, пытавшихся «разговорить» плакальщицу. Так, первым, кто открыл миру поэтический талант карельской крестьянки, стал Елпиди-фор Васильевич Барсов, собиратель фольклора, в 1865–1870 годах учитель Олонецкой духовной семинарии, будущий хранитель Отдела рукописей Румянцевского музея и издатель трехтомного собрания «Причитаний Северного края». В статье «Ирина Федосова и ее песнопения» (Московский листок. 1896. № 3) Е. В. Барсов упоминает о том, что еще прежде него хотел послушать ка- рельскую сказительницу и записать от нее несколько былин сосланный в Петрозаводск фольклорист П. Н. Рыбников, «но ему это не удалось. Он был в собственном смысле “изящный барин”, а потому Федосова выразила к нему недоверие и наотрез отказалась сообщить ему что бы то ни было»1:
Спой про них и за них.
За могутных, за рыжих, за умельцев, уставших от долгих трудов, за больных бурлаков, за гундосых ярыжек, за обиженных свекром и боженькой вдов. За прозрачных старух, за детишек в коросте, за добытчиков леса на тропах кривых… Ты, Аринушка, выскажи их безголосье.
Пособи сиротинам.
Уважь горемык.
Ты начни причитанье тихонько.
Особо.
Неторопко.
Нежданно, как дождь в январе [9; 177–178].
Введение в текст устаревших и диалектных слов способствует исторической и фольклорной стилизации текста, созданию северного колорита: «крестьян Олонецкой губернии», «могут-ных»2, «гундосых ярыжек»3, «пособи», «уважь», «особо», «неторопко»4, предлог «за» в значении «о», с которым в контексте контаминируется современное литературное значение этого предлога «вместо».
Помимо свойственных и фольклору, и литературе звуковых, морфемных, лексических повторов-анафор и синтаксического параллелизма, однородных рядов, Рождественский использует кольцевое композиционное построение текста, повторяя настойчивую просьбу и отсылая читателя к началу произведения:
Спой,
Ирина Андреевна, свет-Федосова!
Спой, как в детстве, на Юсовой скорбной горе… Впереди у тебя – одинокая старость, и могила, ушедшая в небытие… [9; 178–179].
Концовка произведения прямо связывает народную поэтессу, от которой фольклористы записали около 30000 строк-импровизаций, сочиненных ею с опорой на народные традиции плачей, былин, песен, духовных стихов, пословиц и поговорок, которую слушала Россия и весь мир, и современного поэта, болеющего душой за нынешнюю жизнь, переживающего так же за теперешние беды и страдания людские, тоже путешествующего по миру и переживающего чужое горе, как свое:
Лишь бы песня осталась.
Лишь бы правда осталась.
Лишь бы дело осталось.
Твое и мое [9; 179].
Стихотворение Р. Рождественского «Банный день» также насыщено повторами количественно-именных сочетаний с числительным десять : «десять бань», «десять раз» (5 повторов), «десять поминаний черта в аду», «десять долгих выдохов», «десять обновленных, распаренных тел», «десять домов», «десять дымов», «десять хозяюшек», «десять аккуратных стираных рубах», «десять папиросок», «десять откровений», «десять ложек», «десять перепутанных прядей волос», «десять капель белого», «десять лбов наморщенных», «десять ультиматумов», «десять океанов» и др. Некоторые из этих словосочетаний содержат абстрактные несчетные имена, в контексте, рядом с числительным, трансформирующие прямое отвлеченное значение и приобретающие метонимический смысл: «десять потрясений», «десять заварух», «десять умов». Стихотворение, насыщенное «неиссякающим юмором» [4; 105] Рождественского, содержит бытовые, разговорно-обиходные и диалектные слова («у-у-ух», «ох», «булки-налетушки», «бухтят», «баня», «таз эмалированный», «веник», «заварух», «черта», «хозяюшек», «папиросок», «уха навариста», «белое», «дурманище»), реплики – «все то, из чего складывается заинтересованное общение человека с человеком» [1; 366], подчеркивающие не только будничность, обычность происходящего, но и особую теплоту, человечность, подобную пушкинской «всемирную отзывчивость» лирики Рождественского. Повтор количественно-именных сочетаний как будто бы передает вечный круговорот жизни, в который включен и банный обряд, символизирующий обновление, очищение от скверны не только тела, но и души человека, а потому священный и не нарушаемый в былинном крае. Номинативный ряд «Ночь. Отдохновение. Тишина» включает изображаемые картины жизни заонежских деревень в космический природный цикл, а «лбы наморщенные» и «откровения» карельских мужичков выдают в нарисованных с такой любовью персонажах философов, подобных шукшинским «чудикам». Завершается стихотворение излюбленным приемом Рождественского, перенятым, очевидно, от Маяковского, – гиперболой [7; 105]:
…И такое озеро за окном – десять океанов поместятся в нем!
И такой дурманище от земли, – даже в бане веники расцвели [9; 184].
Настойчиво повторяющийся нумератив «десять» намекает, как кажется, и на десять глав кижской церкви Покрова Божьей Матери, и на десять заповедей Христа, по которым должен жить и живет простой русский человек, и на десять пальцев руки хранимого Господом и Богородицей народа-зодчего и умельца.
В завершающем наш разбор стихотворении «Мы стоим перед Кижским собором одни…» также используется имя числительное, связанное с описанием уже другого кижского памятника – церкви Преображения Господня, венчающейся 22 главами, подобными шеломам русских витязей:
…встанут други мои.
Будто Кижский собор.
Над могилой склонив двадцать две головы [9; 186].
Сам собор уподобляется поэтому дружине, богатырям – защитникам земли русской, так что стихотворение оказывается ассоциативно связанным с былинными сказаниями и воинскими повестями Древней Руси. Не случайно стихотворение написано «от лица некоего коллективного “мы”» [6; 204]:
Мы стоим перед Кижским собором одни.
Мы стоим, пересчитывая купола. И не верим еще, что прекрасны они тою силой, что их воедино свела.
Богатырское племя.
Дружина.
Семья [9; 185].
Подводя итог нашим размышлениям, отметим, что Карелия всегда была в сердце Роберта Рождественского как край – хранитель народной поэзии, богатая талантами земля, с ее северным мастеровым народом, наконец, как место, где поэт встретил людей, прошедших с ним рядом всю жизнь, поэтому образ Карелии в лирике Р. Рождественского, как-то сказавшего о себе: «Кому принадлежу?.. Березе, ниспадающей в Онегу», – занимает особое место. Поэзия Рождественского, с ее лиро-философским, романтическим характером, гуманистическим пафосом продолжает лучшие традиции фольклорного песенного творчества и русской классической литературы.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-0400180.
Список литературы Карельские мотивы и фольклорные элементы в лирике Р. Рождественского
- Бочаров А. Поэтический мир Роберта Рождественского//Роберт Рождественский. Удостоверение личности/Сост. К.Р. Рождественская. М.: ООО «Эстепона», 2002. С. 362-366.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1980 (репринт, изд.). Т. 4. 623 с.
- Калугин В.И. Струны рокотаху.: Очерки о русском фольклоре. М.: Современник, 1989. 623 с.
- Мальгин А.В.Р. Рождественский: очерк творчества. М.: Худ. лит., 1990. 208 с.
- Павлович Н.В. Язык образов: парадигмы образов в русском поэтическом языке. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азбуковник, 2004. 527 с.
- Попова А. Фольклорные традиции в творчестве Роберта Рождественского//Север: Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал. 2008. № 1-2. C. 203-207.
- Прищепа В.П., Сипкина Н.Я. Орфей великой эпохи. Иркутск: Принт Лайн, 2011. 244 с.
- Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка. По произведениям русских писателей XVIII-XX в. М.: Дрофа, 2005. 828 с.
- Рождественский Р. Возвращение: Стихи разных лет. Поэма. Петрозаводск: Карелия, 1972. 232 с.
- Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей/Гл. ред. А.С. Герд. СПб.: СПбГУ, 1996. Вып. 3. 414 с.
- Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей/Гл. ред. А.С. Герд. СПб.: СПбГУ, 2005. Вып. 6. 342 с.
- Словарь русских народных говоров/Под ред. Ф.П. Филина. Л.: Наука, 1986. Вып. 21. 360 с.