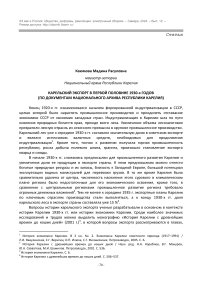КАРЕЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х ГОДОВ (ПО ДОКУМЕНТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)
Автор: Каюмова Мадина Расуловна
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные причины роста карельского экспорта в первой половине 1930-х гг. в контексте общей истории экономики Карелии. Проанализированы факторы, которые оказывали негативное влияние на развитие экспорта. На примере разных статей экспорта показано, с какими трудностями сталкивались экспортеры в поисках рынков сбыта.
Экспорт, индустриализация, лесная промышленность, внешняя торговля
Короткий адрес: https://sciup.org/140306401
IDR: 140306401 | DOI: 10.34830/SOUNB.2024.80.63.001
Текст научной статьи КАРЕЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х ГОДОВ (ПО ДОКУМЕНТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)
Режим доступа:
Конец 1920-х гг. ознаменовался началом форсированной индустриализации в СССР, целью которой было нарастить промышленное производство и преодолеть отставание экономики СССР от экономик западных стран. Индустриализация в Карелии шла по пути освоения природных богатств края, прежде всего леса. Увеличение объема лесозаготовок превратило лесную отрасль из сезонного промысла в крупное промышленное производство. Карельский лес уже к середине 1930-х гг. составлял значительную долю в советском экспорте и являлся источником валютных средств, необходимых для продолжения индустриализации1. Кроме того, толчок к развитию получила горная промышленность республики, росла добыча полевого шпата, гранита, произошло становление экспорта кварца и слюды.
В начале 1930-х гг. сложились предпосылки для промышленного развития Карелии и увеличения доли ее продукции в экспорте страны. К этим предпосылкам можно отнести богатые природные ресурсы и их запасы, близость к Западной Европе, большой потенциал эксплуатации водных магистралей для перевозки грузов. В то же время Карелия была сравнительно удалена от центра, численность населения этого сурового в климатическом плане региона было недостаточным для его экономического освоения, кроме того, в сравнении с центральными регионами промышленное развитие региона требовало огромных денежных вложений2. Тем не менее к середине 1935 г. экспортные планы Карелии по ключевым отраслям производства стали выполняться, а к концу 1930-х гг. доля карельского леса в экспорте страны составляла уже 15 %3.
Вопросы истории карельского экспорта ученые разрабатывали в основном в контексте истории Карелии 1930-х гг. или истории экономики Карелии. Среди наиболее значимых исследований и трудов можно выделить монографию «История Карелии с древнейших времен до наших дней» (2001 г.)4, в которой вопросы экспорта рассматриваются в главах,
Статьи
посвященных развитию народного хозяйства Карелии в годы индустриализации, а также трехтомную монографию «История экономики Карелии» (2005 г.)5, где также затрагиваются проблемы состояния и развития карельского экспорта в 1930-х гг. Среди современных исследователей историей экономического развития Карелии в 1930-е гг. занимается О.И. Кулагин, однако в фокусе его научных интересов находятся вопросы региональной экономики 1940–1990-х гг. Таким образом, проблема изучения карельского экспорта 1930-х гг. на основе подлинных архивных документов остается недостаточно изученной и нуждается в дальнейшей научной разработке.
Целью исследования является выявление основных причин роста карельского экспорта в первой половине 1930-х гг., а также факторов, которые этот рост тормозили, и подходов к их преодолению. Основными источниками стали документы уполномоченного Народного комиссариата внешней торговли СССР по АКССР (далее – уполномоченный НКВТ СССР по АКССР) и экспортного совещания при Совете Народных Комиссаров АКССР (далее – экспортное совещание при СНК АКССР).
Экспортное совещание при СНК АКССР стало созываться в конце 1920-х гг. Основной целью их деятельности были разработка и проведение в жизнь мероприятий по выполнению экспортных планов6. Членами экспортного совещания назначались руководители (или их заместители) органов советов народного хозяйства Госплана, Госбанка, Рабоче-крестьянской инспекции, представители от ключевых отраслей промышленности и кооперативных объединений, уполномоченные от отраслевых народных комиссариатов. В 1929 г. был назначен уполномоченный НКВТ СССР по АКССР, который взял на себя большую часть функций совещания. При уполномоченном состояли инспекторы по качеству продукции (в основном работали в лесном секторе), которые занимались проверками на предприятиях.
Экспортное совещание при СНК АКССР и уполномоченный НКВТ осуществляли общее руководство карельским экспортом. Они вели переписку с центром о составлении и утверждении экспортных планов, контролировали исполнение экспортных нарядов, отслеживали качество экспортной продукции, организовывали мероприятия по стимулированию экспортных отгрузок. В их задачи входило также изыскание новых видов экспорта из Карелии.
В начале 1930-х гг. при районных исполнительных комитетах (далее – РИК) стали создаваться ячейки содействия экспорту, возглавляемые председателями РИКов. В их задачи входил контроль за выполнением экспортных планов, посещение предприятий-экспортеров, изыскание новых статей экспорта, агитация по вопросам экспорта7. Позднее ячейки были преобразованы в районные экспортные совещания при РИКах. Экспортное совещание при СНК АКССР осуществляло контроль и руководство деятельностью ячеек содействия, а затем и районных совещаний.
Рассмотрим основные экспортные статьи Карельской республики в первой половине 1930-х гг. Главным экспортным товаром являлись лесоматериалы. В 1930 г. на долю
Статьи
лесоматериалов приходилось 98,1 % от всего экспорта Карелии8. На протяжении всего рассматриваемого периода с развитием других видов экспорта доля лесоматериалов снижалась, но оставалась всегда на уровне более 90 %. Второй статьей карельского экспорта к началу 1930-х гг. был полевой шпат, добываемый на Чупинских горных разработках, в 1932 г. Карелия получила первые заказы на поставку слюды. Несмотря на богатые запасы рыбы, рыбная промышленность Карелии в начале 1930-х гг. входила в число отстающих от плановых показателей экспорта, несмотря на это рыбная продукция год от года включалась в экспортный план. Заготовки экспортного пушно-мехового сырья к началу десятилетия осуществлялись силами охотников и за счет скупки сырья у местного населения, к середине 1930-х гг. Повенецкий звероводческий совхоз стал одним из ключевых заготовителей в Карелии. Кроме перечисленных статей экспорта, поставки кузнечных изделий на азиатский рынок осуществлял Онежский машиностроительный и металлургический завод.
Экспорт лесоматериалов
Основными продуктами лесного экспорта Карелии были в основном необработанные или прошедшие простую обработку лесоматериалы: круглый и тесанный лес, пиломатериалы, пропсы и балансы. Экспорт леса из Карелии в первой половине 1930-х гг. осуществлялся через Всесоюзное лесоэкспортное акционерное общество «Экспортлес»9. К 1930-х гг. вследствие набравшего силу мирового экономического кризиса произошло падение цен на лесные материалы, значительное снижение спроса на стройматериалы, обострилась конкуренция со стороны Финляндии и Швеции. В своем докладе от 1929 г. председатель ВАО «Экспортлес» К.Х. Данишевский заявлял: «Нет страны, состояние и экономика которой не били бы по нашему экспорту леса»10. Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, в 1928–1929 гг. план по лесоэкспорту в Карелии был выполнен на 95,9 %, что вывело трест «Кареллес» на первое место среди всех предприятий страны11 и превратило его в один из крупнейших лесозаготовительных трестов в СССР. В 1929 г. в ходе реформирования лесной отрасли 14 леспромхозов республики и находящиеся в их пользовании леса были переданы в подчинение тресту. В состав леспромхозов входила и часть лесопильных заводов треста12. Все крупные предприятия Карелии в октябре 1930 г. получили статус предприятий общесоюзного значения и перешли от местных органов власти в ведение общесоюзных отраслевых наркоматов13. Все крупнейшие лесопромышленные предприятия Карелии были ориентированы на выпуск экспортных товаров.
В 1930 г. в Карелии было заготовлено рекордное количество лесоматериалов — 8,3 млн кубометров. Цена этих «рекордов» для экономики республики была довольно высока и привела к перенапряжению хозяйственной жизни Карелии. Кроме того, страдало и качество товаров. Так, например, на заседании Экспортного совещания при СНК АКССР от 1 ноября
Статьи
1929 г. отмечалось, что перенапряженность программы по пиломатериалам поставила «Кареллес» перед необходимостью отгрузки товара зачастую «прямо из-под пилы». Это приводило к тому, что в ходе транспортировки непросушенные лесоматериалы приходили в некондиционный вид14. В следующем 1930 г. объем лесозаготовок сократился, как следствие, сократился и экспорт леса. В 1931 г. представитель АКССР при Президиуме ВЦИК писал в СНК АКССР: «Карелия считается относительно на хорошем счету, хотя я и говорил, что и нас есть за что греть, особенно за последнее время»15. Действительно, в 1931 г. лесозаводами треста «Кареллес» план на экспорт был выполнен только на 73 %16. СНК КАССР признал работу по экспорту за 1931 г. неудовлетворительной17. В дальнейшем до 1934 г. тенденция к недовыполнению планов по лесоэкспорту сохранится.
Основными причинами невыполнения экспортных планов в первой половине 1930-х гг. были низкая производительность заводов, реконструкция которых еще не была окончена, недостаток рабочей силы, неудовлетворительная логистика, низкое качество поставляемой на экспорт продукции. Кроме того, спускаемые сверху планы и экспортные программы не всегда составлялись на основе строгого учета производственных возможностей лесозаводов и были завышены. Эти причины вытекали из куда более масштабных проблем, характеризовавших экономику Карелии конца 1920-х — начала 1930-х гг. В целом экспорт лесоматериалов из Карелии для самой республики можно было назвать убыточным, так как другие страны, например, Финляндия и Швеция, поставляли на внешний рынок лесоматериалы более высокого качества, но их себестоимость была ниже18. Соответственно, для того, чтобы конкурировать с европейскими предприятиями, карельский лес необходимо было продавать ниже себестоимости. «Английский лесопромышленный журнал» в 1930 г. отмечал, что «русские продают свой товар по ценам, которые причинили бы очень большие убытки промышленности любой страны...»19. Тем не менее продажа леса оставалась стабильным источником валюты для продолжения индустриализации, поэтому на нее была сделана основная ставка20.
Остановимся подробнее на основных причинах, которые приводили к недовыполнению экспортных планов.
Несмотря на переоборудование и постепенный рост производительности заводов (например, к 1932 г. производительность заводов выросла на 23 % по сравнению с 1928 г.) Качество карельских лесоматериалов было невысоко. Этому обстоятельству способствовала целая совокупность факторов. Состояние лесобирж при заводах не позволяло обеспечить правильного хранения заготовленных товаров до их отправки покупателям. Лесобиржи с оставшейся с дореволюционных времен инфраструктурой не были ориентированы на хранение большого объема пиломатериалов. Емкость бирж на многих заводах составляла
Статьи
порядка 70–75 % от необходимой21, что приводило к нарушениям в технологических процессах укладки и просушки материалов. Неблагоприятные условия хранения влекли за собой порчу товаров. Так, например, в 1930 г. на каждый поставленный на внешний рынок стандарт лесоматериалов приходилось клеймсов (претензий покупателей в связи с неудовлетворительным качеством товара) в среднем на 0,64 фунта стерлинга, в 1931 г. — 0,43 фунтов стерлинга22. В начале 1930-х гг. особенно много претензий поступало к качеству лесоматериалов, поставляемых Ковдинским лесозаводом (с. Ковда до 1938 г. находилось в составе АКССР): покупатели за границей иногда просто отказывались покупать товар. Керетский завод в навигацию 1930–1931 гг. работал без простоев в отгрузке товаров на пароходы, в то же время к лесоматериалам этого завода были предъявлены самые высокие клеймсы23. Негативно на качестве лесоматериалов сказывались также неудовлетворительные условия хранения лесоматериалов в пути, а также его длительность зачастую приводила к их порче. Могло пройти больше месяца от погрузки парохода лесоматериалами и его разгрузки в порту назначения.
Ещё одной причиной невыполнения экспортных планов по лесу были постоянные простои в работе заводов, вызванные недостатком сырья (план по лесозаготовкам в республике систематически не выполнялся, логистика поставок сырья на лесозаводы в начале 1930-х гг. не была налажена) или его низким качеством, неисправностью оборудования заводов, а также неукомплектованностью производства квалифицированными кадрами. Так, например, за 1931 г. простои на лесозаводах Карелии составили около 1 миллиона человеко-часов, то есть предприятия Карелии не досчитались 3 миллионов рублей. Обеспеченность заводов постоянными работниками к 1932 г. составляла в среднем 76 %. Текучесть кадров на лесозаводах также была высока. Например, в 1931 г. она составляла 150,3 %24. Для обеспечения темпов индустриализации в Карелии было необходимо большое количество рабочей силы, то есть того ресурса, которым Карелия в силу ее малонаселенности, не обладала. В 1929 г. на лесозаготовки было завербовано около 50 тысяч рабочих25. Суровый северный климат, недостаточное питание, плохое снабжение потребительскими товарами, отсутствие социального и культурного обслуживания, жилищный кризис приводили к тому, что завербованные рабочие редко оставались работать на постоянной основе по истечении срока вербовки. Кроме того, квалификация завербованной рабочей силы была невысока, вследствие чего эффективность труда рабочих на оборудованных новыми станками лесозаводах была также низкой. Для хозяйственного освоения северных территорий, согласно постановлению Карельского обкома ВКП(б) от июня 1930 г., было решено привлечь труд заключенных26. В дальнейшем более трети продукции лесной промышленности производилось руками заключенных в лагерях на территории Карелии27.
Статьи
В 1932 г. ситуация с экспортом лесоматериалов несколько улучшилась. Годовой план по всем видам продукции в среднем был выполнен на 90,3 % за счет перевыполнения плана по отдельным видам28. В этом же году лесозаводы Карелии стали поставлять на экспорт ящичные или «банановые» комплекты — ящики для хранения и транспортировки бананов, которые отправлялись в Южную Америку. Годовой план был выполнен только на 5,5 %, а качество ящиков было довольно невысоким. Тем не менее на следующий 1933 г. также был запланирован выпуск комплектов29. В 1933 г. было экспортировано лесоматериалов на сумму 16,2 млн рублей, однако плановые показатели не были достигнуты30.
В этом же году Ленинградский обком ВКП(б) проводил проверку деятельности партийной организации Карелии, в результате которой проверяющими были отмечены крупные недостатки в экономике и социальной сфере, прежде всего отставание в лесозаготовках и рыбных промыслах, то есть производстве экспортных статей. Устранить недостатки рассчитывали в ходе «генеральной чистки», решение о которой принял январский 1933 г. Пленум ЦК ВКП(б). В ходе чистки 1933 г. в АКССР из партии было исключено более 20 % членов31. В результате перестройки партийного аппарата в основу организационной структуры Карельского обкома лег отраслевой принцип, за отделами были закреплены определенные отрасли народного хозяйства, а в их задачи стали входить решение производственных проблем, а также контроль за выполнением хозяйственных планов32.
Планом на 1934 г. было предусмотрено сдать на экспорт лесоматериалов на 18,3 млн рублей33. Экспортный план по лесоматериалам был в целом выполнен (по трестам «Карелдрев» – 90,8 %, «Кареллес» – 106 %34 (105,3 %)35), несмотря на то, что выполнение общего плана заготовки и вывозки лесоматериалов на внутренний и внешний рынки составляло 84,7 %36. К 1934 г. значительно выросла и обеспеченность заводов рабочей силой, в среднем она составляла около 85–90 %37.
К 1934 г. постепенно стало приводиться в порядок и биржевое хозяйство. Например, Ильинский и Сорокский лесозаводы установили контроль за правильностью укладки товара, организовали зашивку и укрытие лесоматериалов, тем самым предохраняя товар от порчи. Это привело к существенному повышению качества поставляемой на внешний рынок продукции. В 1934 г. в отгруженном в Ленинградском порту товаре дефекты содержались лишь в 0,4 %. Клеймсы, предъявленные на продукцию Сорокского лесозавода в 1934 г., составили 37 копеек на стандарт лесоматериалов, тогда как в 1933 г. сумма клеймсов
Статьи
составляла 1 рубль 77 копеек на стандарт38. План 1935 г. был выполнен в среднем на 105,8 %39.
Одним из действенных стимулов к борьбе за выполнение плана было премирование. За образцовое выполнение экспортных планов наиболее отличившиеся бригады или работники предприятий, осуществляющих заготовку экспортных товаров, премировались из фондов Народного комиссариата внешней торговли. Премиальный фонд включал в себя не только солидные денежные суммы, но и товары народного потребления: одежду и обувь, посуду, граммофоны и граммофонные пластинки, велосипеды, наручные часы и др.
Стимулировалась работа по заготовке экспортной продукции с помощью конкурсов, социалистических соревнований. Например, в 1934 г. состоялся всекарельский конкурс на лучшее выполнение экспортного плана на 1-е полугодие 1934 г. среди предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности. Победившим лесозаводам и леспромхозам полагались премии от 5000 до 1500 рублей40. Первая премия в 5000 рублей была присуждена лесозаводу «Октябрьской революции», перевыполнившему план по распиловке древесины, а также допустившему всего 0,1 % брака. Первая премия среди леспромхозов в 4000 рублей была присуждена Петрозаводскому леспромхозу, выполнившему план на 154,1 %41. В 1935 г. проводились Всесоюзный лесоэкспортный конкурс42, Всекарельский конкурс по выполнению экспортного плана круглого и тесанного леса43, которые поддержали большинство предприятий лесной промышленности Карелии.
В лесной и деревообрабатывающей промышленности в рассматриваемый период продолжался поиск новых статей экспорта. Так, например, в октябре 1933 г. на Петрозаводской лыжной фабрике им. Гюллинга обсуждалась возможность выполнения заказа Всесоюзного экспортного объединения «Коверкустэкспорт» на изготовление экспортных лыж для поставки в Австрию по заграничным образцам. Было решено заготовить пробную партию в 100 пар лыж. Несмотря на то, что пробная партия не в полной мере удовлетворила заказчика, впоследствии, когда были решены некоторые организационные вопросы экспорта и установлено взаимопонимание между заказчиком и заготовителем, карельские лыжи нашли свой путь на внешний рынок. Уже в следующем году в экспортный план было включено производство 10 000 пар лыж на сумму 300 000 рублей44.
Продукция не лесного экспорта Карелии
Продукция горной промышленности
К началу 1930-х гг. из Карелии экспортировался в основном полевой шпат, добываемый на Чупинских горных разработках, после лесоматериалов полевой шпат был второй статьей карельского экспорта. Карельский полевой шпат по качеству превосходил материал,
Статьи
добываемый в Канаде, Швеции и Норвегии45. Шпат добывался на 13 рудниках и вывозился за границу из Карелии по Белому морю в страны Европы. Основными покупателями карельского полевого шпата являлись промышленники Германии. Кроме полевого шпата из республики на внешний рынок поставлялся мрамор. Добываемые трестом гранит и габбро-диабаз реализовывались на внутреннем рынке. С 1934 г. были организованы поставки на экспорт кварца, который добывался вместе со шпатом, но лежал «мертвым грузом» в местах заготовок довольно продолжительное время из-за проблем с логистикой. Заготовкой нерудных ископаемых в Карелии занимался Карельский государственный горнопромышленный трест «Карелгранит».
В систему предприятий треста «Карелгранит» входила Петрозаводская слюдяная фабрика, основанная в 1929 г. В 1932 г. по заказу Всесоюзного объединения «Минералсиликатэкспорт» фабрика обязалась поставить в США 50 тонн чешуйки слюды-мусковита46, в 1933 и 1934 гг. в планах фабрики стояло уже 300 тонн слюды на 445,5 тысяч рублей 47. Уже в 1933 г. слюда была включена в республиканский экспортный план.
Планы по экспорту продукции горной промышленности также систематически выполнялись не в полном объеме. Проблемы, схожие с теми, что существовали в лесной отрасли, существовали и в горном секторе: нехватка рабочих рук, плохое снабжение, неотлаженная логистика, низкий уровень механизации промышленной добычи горных пород. В основном планы по тресту «Карелгранит» выполнялись за счет слюды, так как в начале 1930-х гг. Петрозаводской слюдяной фабрике удалось выйти на новые мощности. Фабрика располагалась в г. Петрозаводске – столице республики, трудились на фабрике в основном женщины, недостатка в рабочих руках фабрика не испытывала, высока была дисциплина на производстве. Так, например, план 1934 г. на поставку полевого шпата был выполнен «Карелгранитом» на 34 %, в то время как заказы «Минералсиликатэкспорта» на слюду были выполнены на 111 %48. В 1935 г. план по полевому шпату и слюде совокупно был выполнен на 80 % за счет последней49). В отличие от лесной промышленности, к середине 1930-х гг. горным предприятиям Карелии не удалось выйти на новый уровень производительности.
Продукция рыбной промышленности
В Карелии на экспорт заготавливали беломорскую семгу и речного лосося. В 1931 г. была создана первая рыбодобывающая организация Карелии акционерное общество «Карелрыба», позднее общество было реорганизовано в Карельский государственный рыбопромышленный трест («Каргосрыбтрест»)50. Рыбная продукция из Карелии поставлялась в страны Европы, например, в Грецию. Качество продукции рыбного промысла было не очень высоко, поэтому в начале 1930-х гг. большая часть продукции треста шла на
Статьи
внутренний рынок.
Процесс обработки рыбы практически не был механизирован, вследствие чего страдало качество переработки. Большинство рыбозаводов не было оснащено современным холодильным оборудованием, поэтому рыба консервировалась за счет просолки, экспортный же продукт предполагал в основном увеличение срока хранения рыбы за счет заморозки. «Каргосрыбтрест», осуществлявший заготовку рыбы, не был в должной мере обеспечен рыболовным флотом для быстрого сбора улова.
На 1931 г. экспортным планом было предусмотрено заготовить 30 тонн семги и 4 тонны лосося51. Изначально к заготовке было предположено 25 тонн семги, однако Всесоюзное экспортное объединение «Союзрыба», курировавшее экспорт рыбных товаров, в жесткой форме настаивало на увеличении плана. В письме руководителей «Союзрыбы» заготовительным предприятиям АКССР от 12 апреля 1931 г. было указано: «Мы никоим образом не можем согласиться с Вашим планом заготовки семги. <…> Вы обязаны сдать максимальное количество парной семги. <…> весь будущий улов мы уже запродали, следовательно, изыскание путей к увеличению заготовок обеспечивает государству верный и быстрый приток валюты»52. В 1931 г. на экспорт было отгружено 17,7 тонн рыбы: 53 % от всей заготовленной семги и 9 % от лосося53. План 1931 г. не был выполнен: по лососю выполнение плана составило 78,5 %, по семге 21 % от годового плана54. В 1932 г. также не удалось достичь плановых показателей, процент выполнения плана составил 42,755.
Основной причиной невыполнения планов было низкое качество рыбы, поступающее на склады треста, в результате большая часть заготовленного сырья шла на внутренний рынок56. В актах приемки рыбы в г. Ленинграде значилось следующее: «<…> Семга соленая, по консистенции нормальная, вкусовые качества правильные <…>. Частично загрязнена от не совсем чистого льда <…>, не совсем чистой соли. Общий вид товара неприглядный (не удовлетворительный). К экспорту не пригоден»57. Качество товара на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось не очень высоким. Из-за нехватки судов рыболовного флота выловленная рыба поступала в места обработки не оперативно, в результате чего теряла свои качества. Зачастую даже для внутреннего рынка рыба поставлялась как 2-й сорт58.
Кроме того, отсутствие оборудованных мест для длительного хранения рыбы на местах лова и на рыбозаводах приводило к тому, что уже заготовленный экспортный товар приходилось реализовывать на внутреннем рынке, так как высок был риск, что товар испортится и в итоге предприятие понесет убытки. За «разбазаривание» экспортной продукции начальникам предприятий грозили штрафы и выговоры. Так, например, в мае 1932 г. директор Медвежьегорской промконторы получил выговор с предупреждением, так
Статьи
как по его распоряжению было отпущено для питания рабочих лесозавода и поселкового лесничества 130 кг экспортного лосося59.
Системной проблемой для всей карельской промышленности было отсутствие квалифицированных кадров, характерной она была и для рыбной промышленности. Не хватало специалистов, которые возглавляли бы особые бригады, нацеленные исключительно на вылов экспортной рыбы. Существовали и другие проблемы. Каждый год рыбный промысел приходилось останавливать на время проведения сплавных работ по рекам и каналам Карелии. В связи со строительством Нивской ГЭС, Беломорско-Балтийского канала, проведением сплавных работ из эксплуатации выбыли важнейшие для рыбного промысла реки Выг, Кемь, Ковда, Нива60. Еще одной трудностью на пути наращивания производства рыбной продукции было состояние рыболовного флота. Неукомплектованность флота приводила к тому, что имеющиеся в наличии суда эксплуатировались с большой нагрузкой и выходили из строя61.
В плане 1932 г. значилось, что Карелия должна поставить на экспорт 113,5 тонн рыбы. В документе уполномоченный НКВТ СССР по АКССР сделал пометку для «Каргосрыбтреста»: «По вашей системе задания большие, но выполнимые при четком и умелом руководстве заготовками»62. В итоге план был выполнен только на 42,7 %63. В следующем году уполномоченный оспаривал план на 1933 г. по Карелии. Например, в письме, адресованном Ленинградской конторе Всесоюзного объединения «Рыбоэкспорт», он отмечал: «...Количество 25 тонн на 1-й квартал лососевых для Карелии не выполнимо, т. к. подледный лов будет проводиться впервые, как опыт»64. В результате пересмотренный план 1933 г. был выполнен на 90 %. Однако 46 % приходилось на долю «условно экспортной» рыбы, то есть продукции, которая реализовывалась на внутреннем рынке, но через Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами («Торгсин»)65.
Несмотря на все проблемы, существовавшие в отрасли, отдельные предприятия зарекомендовали себя как вполне успешные. Например, в 1934 г. заведующий группой северных рыботоваров Ленинградской конторы «Рыбоконсервэкспорт» П.П. Ваничев в своем докладе о рыбной промышленности Карелии отмечал: «Рыбообрабатывающая база в Сороке “является образцовой” по сравнению с остальными в Карелии. Ледник, охлаждающее помещение и приемочная: везде чистота и порядок. Кондиции сортности экспортного товара и инструкции, как обрабатывать и хранить экспортную семгу, равно лозунги о необходимости сохранения качества экспортного товара вывешены на стенах внутри базы»66. Предприятия Белого моря в 1934 г. в целом отличились в плане поставок продукции на экспорт: эти предприятия отгрузили 110 % продукции от предусмотренной
Статьи
планом, тогда как общий план по рыбному экспорту Карелии выполнен не был67.
В годы индустриализации в Карелии наблюдался устойчивый рост количества предприятий рыбной промышленности и, соответственно, нарастал объем промышленного производства рыбных товаров. За 1932–1940 гг. количество предприятий увеличилось с 39 до 333, а объем производства вырос почти в 3 раза68.
Заготовка пушно-мехового сырья
К началу 1930-х гг. пушнина добывалась в основном заготовителями-охотниками. Фонды оплаты труда охотников были невелики, по сравнению с оплатой труда лесозаготовителей, сплавщиков и др. работников лесной промышленности, соответственно, интерес населения к этому виду заготовок был также невысок. Для стимулирования охотников выдавались продуктовые пайки в зависимости от проведенной в заготовительных пунктах оценки сданного сырья. С каждого сданного рубля охотникам полагалось 600 г муки, 1,4 г чая, 55 г сахара, 18 г махорки, а также предоставлялась возможность приобрести промтовары и обувь69. Основной добычей охотников, а также местного населения, сдававшего пушнину государству, был беличий мех.
Поскольку экспорт пушнины был важной составляющей экспортного плана республики, для централизации производства заготовок пушнины 1 июля 1931 г. было организовано товарищество «Карпушнина»70. На 1931 г. по плану в АКССР необходимо было заготовить сырья на 225 тысяч рублей, на заготовку должны были выйти 1500 человек-охотников71. Годовой план был выполнен по пушнине на 21,9 %, по меховому сырью на 56,6 %72. План центра был составлен с учетом того, что к сдаче пушнины присоединится население республики, на руках у которого могло находиться заготовленное пушно-меховое сырье для домашних целей. План также не учитывал специфику карельских природных условий, не позволявших добывать беличий мех в предусмотренных планом количестве73.
На 1932 г. план заготовок пушно-мехового сырья составлял 336 000 рублей74 при потребности в рабочей силе в 2000 человек75. Позже план был уменьшен до 256 000 рублей, в результате чего практически удалось достичь плановых показателей – 97,9 %, 251 тысяча рублей76. В 1934–1935 гг. план по экспорту пушно-мехового сырья из Карелии стал стабильно выполняться. Планом на 1934 г. было предусмотрено сдать экспортной пушнины на 324 700 рублей77. План был перевыполнен на 52,7 %78. В 1935 г. выполнение плана составило 115 %79.
Статьи
Огромная нагрузка на экосистему Карелии приводила к обеднению животного мира, грозившего срывом заготовок сырья в дальнейшем. Часть нагрузки по заготовкам взяли на себя звероводческие совхозы.
Звероводство в Карелии стало развиваться с середины 1920-х гг., когда появились первые экспериментальные питомники пушных зверей: лисиц, белок, соболей. У истоков промышленного звероводства в Карелии стоял К.Г. Туомайнен, который в 1924 г. начал проводить первые опыты по разведению в неволе пушных зверей на Соловецких островах80. В 1930 г. по его инициативе был создан Повенецкий зверосовхоз, в котором стали разводить серебристо-черных лисиц, соболей, куниц и кроликов. На 1933 г. хозяйство совхоза насчитывало 315 голов лисиц, 14 соболей с приплодом, до 6 000 кроликов81. В начале 1930-х гг. Повенецкий зверосовхоз прочно занимал первое место в СССР в области разведения лисиц. Соловецкий питомник был преобразован в зверокомбинат и передан в систему УСЛАГа ОГПУ, Повенецкий зверосовхоз состоял в системе Белбалтлага. В 1932 г. Повенецкое хозяйство было выкуплено Всесоюзным объединением «Союзпушнина»82.
Другие виды экспорта
В 1932 г. на внешний рынок стал работать Онежский металлургический и машиностроительный завод, который поставлял в Китай, Монголию, Персию, Афганистан кузнечные инструменты по нарядам Всесоюзных объединений «Экспортмашина» и «Союзтехэкспорт». Только за первый квартал 1932 г. завод получил наряды на изготовление и поставку 1 309 кувалд. В новом для завода вызове не обошлось без курьезов. В конце первого квартала отгружено для покупателя было только 5,2 % заказанных товаров. По замечанию уполномоченного НКВТ по АКССР, «завод относился к экспортным нарядам без должного внимания», в результате чего сроки исполнения нарядов срывались83. Причина невнимания к экспортным нарядам крылась в недоработке заказчика: в договоре не было указано количество и ассортимент товара. В результате в производственный план завода не была включена выработка экспортной продукции, а присылаемые на завод наряды исполнялись нерегулярно — по остаточному принципу вне производственного плана84. Во втором квартале 1932 г. ситуация улучшилась — 75 % товаров было отгружено и отправлено покупателю85. В октябре впервые поступили наряды на поставку кузнечных орудий в Турцию86. К концу года экспортный план был выполнен на 90,6 %87.
Качество изготовленной на заводе продукции не всегда удовлетворяло требованиям заказчика. Высок был процент брака кузнечных изделий: покупатели предъявляли клеймсы на недовес, экспортное объединение отбраковывало товар, имевший «неприглядный» вид вследствие нарушения условий хранения, деформированные образцы и т.д. Представитель
Статьи
экспортного объединения «Техноэкспорт» в своем докладе от 1934 г. директору Онежского завода и уполномоченному НКВТ о состоянии экспортных заказов резюмировал: «… Могу прямо сказать, что экспортом по-настоящему у Вас никто не занимается»88. Справедливости ради необходимо отметить, что как раз в этот год началось переоборудование завода, с целью его переориентации на выпуск сложных двигателей, и специалисты завода были заняты освоением новых технологических процессов, связанных с выпуском новой продукции89.
Впоследствии завод вполне успешно справлялся с производством экспортных товаров. «Техноэкспорт» предлагал расширить ассортимент товаров за счет производства киркомотыг, но дирекция завода отказалась в связи с возросшим числом заказов для внутреннего рынка. К 1935 г. выполнение годового экспортного плана выражалось в 391,5 %90.
Начало 1930-х гг. было сложным периодом в экономической жизни Карелии. Мировой экономический кризис, ударивший по доходности лесоэкспорта, конкуренция на внешнем рынке, низкая производительность карельских заводов, а также постоянный дефицит рабочих рук создавали неблагоприятную обстановку для развития карельского экспорта. В то же время в ходе индустриализации происходило постепенное переоборудование заводов, повышалась их производительность и качество продукции. Недостаток рабочей силы решался за счет вербовки рабочих из других регионов, а также использования подневольного труда многочисленных заключенных лагерей ОГПУ. Не подходящая квалификация рабочих, тяжелые условия труда, плохое снабжение приводили к текучке кадров, не позволяли рабочим закрепляться на местах. Производство экспортной продукции стимулировалось материально с помощью премий, а также организацией социалистических соревнований.
Доля других видов экспорта была невысока, однако на всем протяжении рассматриваемого периода наблюдался рост экспорта продукции горной промышленности и пушно-мехового сырья. Появление новых предприятий, таких как Петрозаводская слюдяная фабрика, способствовало освоению новых ниш на внешнем рынке. Таким образом, к середине 1930-х гг. произошла стабилизация экономической обстановки в Карелии и сложились предпосылки к преодолению основных проблем карельского экспорта.
- 86 -
Список литературы КАРЕЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х ГОДОВ (ПО ДОКУМЕНТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)
- Национальный архив Республики Карелия. Ф. Р-690. Оп. 3. Д. 15/159, 16/170, 17/182, 17/186, 19/211, 22/257, 44/353.
- Национальный архив Республики Карелия. Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 1/15, 4/47, 5/56, 6/80, 7/89, 8/94, 8/96, 8/97, 8/103, 10/128, 11/138, 11/142, 13/158, 14/168, 14/169, 14/171, 14/172, 14/175, 18/218, 18/221, 18/224.
- Национальный архив Республики Карелия. Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 129/868.
- XX век. Севрыба. [В 2 т.]. Т. 1. От Муррайрыбы к Севрыбе (1920-е–1970-е годы) / авт.-сост. В.С. Георги. СПб., 2022.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней / Науч. ред. Н.А. Кораблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Савватеев, М.И. Шумилов. Петрозаводск: Периодика, 2001.
- История экономики Карелии. В 3 кн. Кн. 2. Экономика Карелии советского периода (1917–1991) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Веригин, О.П. Илюха, С.Г. Филимончик. Петрозаводск: ПетроПресс, 2005.
- Кулагин О.И. «Эффект колеи» зависимости в лесной промышленности Карелии как фактор социально-экономического развития региона в конце XIX – XX вв. // Региональные исследования. 2015. № 1. С. 145–152.
- Туомайнен К.Г. Повенецкий зверосовхоз // Карело-Мурманский край. 1933. № 1-2. С. 76.
- Филимончик С.Н. Как в Карелии строили партию-крепость: опыт 1930-х годов // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42. № 6. С. 91–99.