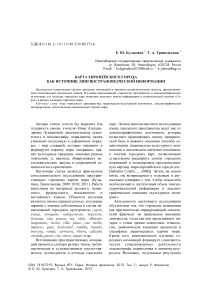Карта европейского города как источник лингвострановедческой информации
Автор: Булыгина Елена Юрьевна, Трипольская Татьяна Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Проблемы современной лексикографии
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Исследуется тематическая группа городских номинаций в лингвокультурологическом аспекте, предполагающем сопоставление нескольких языков. Изучение наименований «городских пространств» в лексикографических источниках и в легендах городских карт позволяет получить новую информацию о семиотической системе «Город» в разных языковых картинах мира.
Язык городского пространства, национально-культурный компонент, лексикографическая интерпретация, сопоставление национальных картин мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14737943
IDR: 14737943 | УДК: 811.161.1/.111/.13+81''374+83''373.6
Текст научной статьи Карта европейского города как источник лингвострановедческой информации
Авторы статьи хотели бы выразить бла годарность своему учителю Нине Александровне Лукьяновой, замечательному лексикологу и лексикографу, открывшему своим ученикам «вселенную в алфавитном порядке» – мир словарей, которые отражают и формируют картину мира говорящих, хранят культурные традиции, связывая разные поколения, и, наконец, обнаруживают исследовательские лакуны в современной семасиологии и прагматике.
Настоящая статья является фрагментом сопоставительного исследования пространственных городских картин мира [Булыгина, Трипольская, 2009; 2010; 2011]. Работа выполнена на материале русского, испанского, французского, итальянского и английского языков. Объектом изучения являются имена нарицательные, входящие наравне с именем собственным в состав наименований городских пространств: город , улица , площадь , набережная , переулок , бульвар ; cita , piazza , via , viale , аlberato , lungomare , vicolo ; ville , place , rue , ruelle , impasse , quai , boulevard ; rambla , bajado , travesia , ronda , carretera , ribera , callejón , avenida , paseo ; city , street , square и др.
Источниками пространственных номинаций являются словари разных типов, публицистические и художественные тексты-тра-велоги, путеводители и легенды городских карт. Логика многоаспектного исследования языка городского пространства ведет нас от лексикографических источников, которые позволяют сформировать основу эмпирической базы и выявить основные способы се-мантизации национально-культурного компонента в лексическом значении топонимов, к текстам городских карт, позволяющим существенно расширить спектр городских номинаций и моделировать пространственную картину мира европейского города (см.: [Sabatini Coletti…, 2006]). Затем, на новом витке, мы возвращаемся к толковым и двуязычным словарям с тем, чтобы осмыслить необходимый и достаточный объем лингвострановедческой информации в лексикографическом описании «культурных доминант».
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что городские номинации как прагматически маркированный лексический фрагмент не привлекали внимание лингвистов, тогда как они представляют интерес с точки зрения семиотики, этимологии, динамических языковых процессов и специфики национальных картин мира. Кроме того, разноаспектное изучение городских номинаций формирует «лингвистическое сопровождение» деятельности лексикографа, переводчика и лингвокульту-ролога. Возможно, полученные результаты
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © Е. Ю. Булыгина, Т. А. Трипольская, 2012
окажутся полезными для авторов путеводителей, разговорников, составителей «двуязычных» карт.
Конечно, наиболее полным источником топонимов являются тексты городских карт, которые содержат разноплановую информацию, значимую для историков, краеведов, культурологов и, как нам кажется, для лингвистов. Э. Амин и Н. Трифт пишут: «Город требует альтернативных описаний и карт, основанных на странствиях» [2002. С. 211].
Текст городских карт как объект специального лингвистического описания языка городского пространства вводится впервые. Карты городов, с одной стороны, являются источником языкового материала - городских номинаций, как нарицательных, так и собственных. Именно этот источник позволяет существенно пополнить тематическую группу, выявленную нами по данным толковых и переводных словарей, а также путеводителей.
С другой стороны, именно легенды карт позволяют составить представление о языке городского пространства как особой системе, включающей наравне с современными номинациями топонимы, несущие информацию об истории города и его жителей.
Можно сказать, что города обретают свои очертанья благодаря множеству разнородных наименований, поэтому освоить городское пространство можно, только изучив «средства его поименования». «Наиболее очевидные из них - туристические карты и путеводители, в которых отобраны особые маршруты и воспроизведена история с тем, чтобы оформить город как привлекательное место» [Там же. С. 226].
«Средства поименования» любого городского пространства представляют собственную систему номинаций, которая в большей или меньшей степени пересекается с топонимической системой других городов даже в одной стране: наименования, например, улиц существенно отличаются в северной и южной Испании; наименования площадей -в разных городах Италии.
«Прочитать» язык «чужого» городского пространства оказывается не так просто даже с опорой на подробную карту, поскольку она содержит топонимы, которые не представлены в других источниках - словарях, путеводителях, разговорниках.
Обычно историю города изучают, сосредоточившись на именах собственных, вхо- дящих в состав топонимов (урбанонимов) (см., например: [Суперанская, 2008]). Часть из них сохраняется в течение многих столетий, часть меняется в связи с общественно-политическими и культурными преобразованиями. Так, российские города за последние сто лет не один раз меняли наименования многих городских пространств и объектов (улица Казанская ^ улица Плеханова ^ улица Казанская в Санкт-Петербурге; улица Тверская ^ улица М. Горького ^ улица Тверская в Москве; улица Кабинетная ^ улица Советская в Новосибирске (в настоящее время улица называется Советской, рядом с современным названием висит табличка «бывшая Кабинетная») и др.). Подобные изменения городских наименований влекут за собой известную эклектику в языке города, который включает наименования, относящие к разным историческим и политическим эпохам. Плохо «стыкуются» между собой такие наименования городских пространств, как соседствующие, например, во Владимире улицы К. Маркса и Дворянская, улицы Княгинин-ская и Урицкого и пр., которые, тем не менее, сохраняют в памяти людей факты и причины тотальных переименований улиц, площадей и др. в ту или иную историческую эпоху. Переименования всегда болезненны и редко воспринимаются как естественный процесс: город привыкает к человеку, человек - к городу.
Не разрывая две составные части урба-нонима, напротив, учитывая моменты их взаимопроникновения, сосредоточимся, однако, на именах нарицательных, наименованиях городских подпространств, которые, как нам кажется, не менее важны для описания пространственной картины мира, поскольку несут информацию об истории, культуре, географии и ландшафте города. Именно в названиях городских пространств сохраняется исторический облик города. Например, Borgo Ognissanti во Флоренции подходит к площади Гольдони, в сегоднеш-ней Флоренции - это практически центр города, тогда как borgo - это предместье, городская окраина, окраинный район города. Благодаря этой номинации мы понимаем, как рос и развивался город, как менялось соотношение центра и окраины.
В средневековом городском пространстве крепостные стены выполняли градообразующую и градозащитную функции. То- понимика города отражает подпространства, расположенные вблизи или на месте крепостных сооружений. Так, в Толедо Ronda de la Carnisa, Ronda de Juanelo - улицы, идущие вдоль крепостной стены, в других городах - на месте бывшей крепостной стены. Ср.: в словаре ronda <...> 4) пространство между крепостной стеной и домами; 5) дорога вдоль крепостной стены (вдоль селения); окружная дорога <.> [БИРС, 2005]. Обычно крепостная стена ограничивала территорию старого города, в дальнейшем вписываясь в структуру городского пространства и / или оставаясь естественной границей города.
В российских городах топонимы тоже сохраняют память о крепостном вале и крепостной стене: улица Южный Вал , улица Северный Вал (Выборг), Крепостная улица (Выборг), улица Вал (Архангельск), улицы Крымский Вал , Сущевский Вал , Пресненский Вал , Земляной Вал и др. (Москва), Земляной Вал (Тюмень), улица Кремлевский Вал (Рязань), Годова гора (Владимир).
Интересны и топонимы, отражающие соотношение воды и суши в пространстве города. Венецианская номинация Rio Terra свидетельствует о том, как горожане отвоевывали пространство у воды: Rio Terra обозначает улицу, идущую на месте засыпанного канала: Rio Terra Lista di Spagna , Rio Terra San Leonardo , Rio Terra Maddalena и др.
Испанское слово avenida в первом значении словари представляют как половодье, разлив реки и только в третьем и четвертом значениях как городскую номинацию: аллея; авеню, проспект <...> [Там же].
Отметим аналогичное соотношение производящего (водного потока) и производного (городской номинации) значений у слова rambla 1) канава, овраг; русло, ложе (дождевого потока) <...> 3) аллея, бульвар (в Каталонии); rambla набережная (в Аргентине, Парагвае и Уругвае) [ИРС, 2005].Таким образом, эти наименования улиц этимологически связаны с водой ( rambla , avenida ), подобное соотношение вода - земля наблюдается и в итальянском языке. Смысловую цепочку поток - русло - улица замечательно иллюстрирует в своей книге «Слово в пути» П. Вайль: «Чинкве-Терре - Пять Земель, или Пятиземье, или Пятиградье. Они следуют друг за другом цепочкой вдоль Лигурийского моря: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца,
Корнилья, Манарола, Риомаджоре. Даже нельзя сказать, что эти пять городков стоят на море: они врезаются в берег, укрываются в скалах, облепляя домами склоны и вершины, простирая улицу - одну главную улицу в окаймлении переулков - по руслу некогда протекавшей здесь реки» [Вайль, 2011. С. 59].
Характеристикой современного и / или исторического городского ландшафта являются номинации: ruga (морщина, складка) в Венеции ( Ruga Orefici , Ruga S.Giovanni ); bajo (низкий, низинный, tierras bajas - низина) в Гранаде ( Bajo S. Ildelfonso ); bajada (спуск, уклон, спускаться, идти под уклон) в Толедо ( Bajado del Barco ); cuesta (склон, скат, уклон, откос) в Гранаде ( Cuesta del Caidero ), в Толедо ( Cuesta de Carlos Y ); subida ( дорога вверх, подъем; склон, откос) в Толедо ( Subida de la Granja ); salita (восхождение, подъем, дорога в гору) в Амальфи ( Salita Bonelli , Salita Truglio ); Владими-ровский спуск , Чернышевский спуск , Туннельный спуск , улица Подъемная , Ядрин-цевский подъем в Новосибирске, улица Кремлевский Спуск (Зарайск), Козлов вал , улица Ильинская Покатая , улица Ивановская Подгорная , Ерофеевский спуск (Владимир).
Подобные наименования встречаются практически в любом городе, однако есть ситуации, когда номинатор отдает предпочтение одной-двум номинациям, которые и отражают ландшафтный облик города.
При всем многообразии наименований улиц в итальянском языке, в Амальфи доминирует городская номинация salita , обозначая вектор освоения человеком пространства от моря вверх в горы. В семантике приведенных выше номинаций отражаются пространственные схемы, в которых номинатор определяет пространство как место передвижения снизу вверх и сверху вниз. Спуски , подъемы , взвозы , bajada , cuesta , subida , salita , sdrucciolo (покатость, покатый) отражают логику освоения пространства: в этих городских номинациях человек является основной точкой отсчета и ориентации в пространстве.
В семантике городских номинаций находят отражение и климатические особенности страны, региона, местности. На картах южных городов Испании и Италии встречаются топонимы, включающие лексемы loggia (крытая галерея), galleria (галерея, подземный переход), cobertizo (навес, козырек у стены, крыша) и др.: cobertizo de Santo Domingo el Real в Толедо; galleria Bettiol в Падуе; logge dei Mercato Nuovo во Флоренции и др.
В северном Петербурге тоже есть крытые галереи ( Перинная, Садовая и др. линии ), защищающие от дождя, снега и ветра.
Урбанонимы сообщают также информацию о том, где жили городские ремесленники, где находились улицы / кварталы с мастерскими кузнецов, каретников, лудильщиков, ткачей. Подобные наименования городских пространств, имена нарицательные, встречаются во всех исследуемых языках: Caldereria Nueva и Caldereria Vieja ( caldereria - ремесло медника, котельщика; медницкая мастерская); Grabador - улица граверов, гравировщиков и др. Подобные полисеманты развивают и третье метонимическое значение «улица, на которой расположена мастерская медников, котельщиков, граверов».
В русском языке эта информация чаще содержится в имени собственном топонима: улица Старогончарная , переулок Новогончарный , улицы Столярная , Ремесленная (Смоленск), Кузнечная (Краснодар, Ростов-на-Дону), Шорная (Новосибирск).
Эта модель наименований улиц является вполне продуктивной в русском языке, по ней строятся и современные номинации: улица Авиастроителей , Заводская , Рабочая , Фабричная , бульвар Космонавтов и др.
В текстах городских карт закодирована информация и о многонациональном характере горожан. Так, в топонимах Гранады навсегда сохранилась информация об этническом разнообразии жителей и взаимодействии разных языков: Albaicin (арабское слово, обозначающее пригород сокольников), Alcazaba (арабское слово крепость ), cuesta de Albasaba , cuesta Albahaca (от арабского базилик ), Alamilos (от арабского черный тополь ; одна из гипотез происхождения однокоренных слов сводится к имени доисламской богини Аллат). Ср. в русских городах: Цыганский проезд , Первый / Второй / Третий Кавказский тупик (Саратов), Цыганская слобода , Армянская слобода (Владикавказ).
Рассматриваемые лексические единицы вряд ли можно было бы выделить как городские номинации, опираясь только на лексикографические источники и путеводи- тели, поскольку последние, как правило, ограничиваются представлением и / или переводом основных топонимов.
Существует два типа карт: адаптированные для русского путешественника (содержащие частичный перевод городских номинаций) и неадаптированные, или оригинальные карты.
Неадаптированная карта - на иностранном языке - включает, наравне с известными наименованиями типа calle , avenida , paseo и др., наименования городских пространств, столь же загадочные для русского путешественника, как закоулок , заулок , тупик для европейца в России. Ср., например: glorieta 1) беседка; 2) лужайка в саду с беседкой; 3) площадь на скрещении улиц, со сквериком в центре; cobertizo 1) навес; 2) козырек у стены; acera 1) тротуар; 2) сторона улицы; la acera de los pares - четная сторона улицы; la acera de enfrente - противоположная сторона улицы; mirador 1. смотрящий, наблюдающий; 2. 1) зритель, наблюдатель; 2) терраса, застекленный балкон <_> [БИРС, 2005].
Сопоставление разных переводных и толковых словарей, а также текстов карт обнаружило качественные и количественные отличия в составе городских номинаций: 1) ряд слов не зафиксирован в словарях вовсе ( avenguda , riera , cami , passeig (Барселона); сorredorsillo , сorralillo (Толедо) и др.); 2) у некоторых полисемантов не отмечены лексико-семантические варианты или употребления слова со значением городского пространства ( corredor , сorral , mirador , ribera , сorralillo ); 3) словари и путеводители фиксируют слово как городскую номинацию, но на городских картах оно практически не встречается (например, ma-lecon , molo в испанском языке).
Не отраженным в разных справочных изданиях оказывается тот фрагмент системы городских номинаций, который сложнее всего поддается переводу и требует толкования энциклопедического типа и специального комментария, поскольку подобные лексемы отражают исторические этапы формирования городского пространства, специфику его устройства и содержат в своем значении национально-культурный компонент (ср.: corredor крытая галерея, проходящая вдоль внешней стены дома [ИРС ЛА, 2004]; corral 1) театр; 2) скотный, птичий двор; загон; 3) грязное помещение, конюш- ня, хлев, свинарник [БИРС, 2005]. На карте Толедо мы обнаруживаем эти лексемы, номинирующие разные городские пространства: Corral de Don Diego, Corredorsillo de San Bartolome и др.
Если сопоставлять системы топонимов в русском языке и в других европейских языках, выявленные в словарях и текстах городских карт, становится очевидным количественный «перевес» имен нарицательных во французском, итальянском, испанском, по сравнению с русским и английским. Однако это едва ли свидетельствует о том, что особенности городского ландшафта, климатические условия, близость / включенность в городское пространство водоемов, развитие городских ремесел, особенности климата и пр. не так важны для русской городской пространственной картины мира, поскольку указанная информация зачастую содержится в зоне имени собственного: улица (не подъем или спуск в основном) Подгорная , Нагорная , Подъемная во многих городах; Широкая , Большая улицы , Дальняя и Ближняя улицы в Самаре; улица Бабушкин Взвоз , Береговая улица в Саратове.
Подобное распределение информации между именем нарицательным и именем собственным в топонимах сообщает об особом видении и отношении к своему городского пространству: имя собственное можно поменять, что не раз происходило, например, в российской истории, а имя нарицательное в составе городской номинации веками хранит память об истории города и его обитателях. А главное, номинаторы не спешат унифицировать язык городского пространства. В русской же городской топонимике наблюдается тенденция к унификации наименований городских пространств: все топонимы должны быть обязательно квалифицированы как улица , переулок , проспект , площадь , проезд , шоссе . Таким образом, нарицательная составляющая городской номинации спуск , подъем , вал , аллея , двор перемещается в зону имени собственного с изменением / сохранением написания.
В контексте поставленной проблемы интересно рассмотреть, как происходило неоднократное переименование улицы Бабушкин Взвоз в Саратове. Изначально взвозом называлась разновидность улицы, круто идущей в гору, по которой от Волги подни- мались груженые телеги. В Саратове взвозов было несколько, поэтому каждому из них приписывалось имя собственное со значением притяжательности: Князевский взвоз, Бабушкин взвоз и др. (напомним, что по этой же модели номинирована, например, Замшина улица в Санкт-Петербурге). После революции появилось официальное название Взвоз им. Бабушкина (но имелся в виду не купец, а однофамилец революционер), следующее переименование в рамках унификации языка городского пространства закрепило номинацию улица Бабушкин Взвоз.
Иногда процесс унификации порождает «топонимических кентавров», в которых пространственная семантика дублируется, а составляющие элементы плохо сочетаются друг с другом: улица Масловский Взвоз , улица Никольский Взвоз (Тюмень); улица Кремлевский Спуск (Зарайск), улица Рыболовецкий Тупик (Таганрог), улица Южный Вал , улица Северный Вал (Выборг), улица Кремлевский Вал (Рязань), улица Липовая аллея (Ленинградская область), улица Голубой Бульвар (Краснодар), улица Элеваторный Заулок (Рязань, пос. Дягилево), проспект Обводной Канал (Архангельск), шоссе Садовое Кольцо (Кондратово), улица Садовое кольцо (Воронежская область), улица Бульварное Кольцо (Краснодар) и др.
Стремление унифицировать язык города, конечно, победило, но к чему это привело? К нагромождению и избыточности иногда мало совместимых топонимов, которые обозначают разные городские пространства: переулок Внутренний Проезд в Ростове-на-Дону; улица Стрелковая 8-й Проезд в Архангельске, проезд Орловское Кольцо в Набережных Челнах, переулок Первый проход (Керчь), улица Новый Тупик (Шатура), улица Двор Пролетарки (Тверь) и др. Совершенно невозможно представить себе такое подпространство, как улица и тупик одновременно ( тупик - улица, не имеющая выхода) или улица и двор , которые устроены принципиально по-разному. Известная логика развития метонимических значений ( двор , находящийся на улице ) мало помогает адресату, скорее даже запутывает его, разве что такие наименования в силу своей нелепости быстро запоминаются.
Другое противоречие возникает между именем нарицательным и именем собственным, входящими в состав топонима . В структуру городской номинации обычно включаются положительно окрашенные элементы, которые призваны демонстрировать достижения, например, в науке, технике, искусстве ( проспект Науки ; улица Авиастроителей , Энергетиков ), напоминать об одержанных победах ( проспект Космонавтов , бульвар Победы ), о завоеваниях политической системы ( улица Коммунистическая , Советская , Ленина и пр.). Кроме того, желательно, чтобы тип городского пространства (его размер в первую очередь) соответствовал «громкому» имени. В этом контексте улица Московский Заулок , Коммунистический тупик и др. звучит смысловым диссонансом. Ср. также: улица Проходной Тупик (Днепродзержинск), переулок Ближний Тупик (Ростов-на-Дону) и др.
История тупиков в русской топонимике сложна и причудлива. Вполне понятно стремление приукрасить советский город, заменив тупики , которые никуда не ведут, нейтральным словом улица. Так, с карты Новосибирска исчез Коммунистический тупик , в котором аполитично диссонировали имя собственное и имя нарицательное: в семантической структуре слова тупик конкурируют топонимическое значение и оценочная метафора.
Последовательно осуществить тотальное переименование не удалось, тупики как городские номинации остались в разных городах: Бердский тупик , Кубановский тупик (Новосибирск), Тупик Огородный , Первый / Второй / Третий Кавказский тупик (Саратов), Овощной тупик (Самара).
Второй вариант решения «тупиковой» проблемы в городской топонимике – перенести нарицательное существительное тупик в имя собственное урбанонима: Улица Школьный Тупик (Московская область), улица Новый Тупик (Шатура) и др. Топонимические комиссии, которые существуют во многих городах и занимаются, в том числе, переименованием улиц, даже не могут предположить, что спустя некоторое время название улицы обрастает новыми коннотациями, связанными с так называемым текущим моментом. Совсем не нейтрально сегодня звучит Школьный Тупик в связи с реформой образования, а также Первый / Второй / Третий Кавказский тупик как акцентирующий неразрешимость национального вопроса.
Смысловой зазор между легендами карт и лексикографическими источниками, безусловно, ждет своего осмысления и «заполнения».
Текст городской карты как источник языкового материала, эксплицирующего пространственную картину мира, позволяет определить доминирующие топонимы, из которых и складывается пространственный облик города, а в нем закодирована основная лингвострановедческая информация.
EUROPEAN CITY MAP AS A SOURCE OF LINGUISTIC COUNTRY RESEARCH INFORMATION