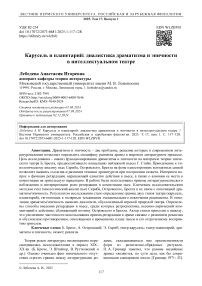Карусель и планетарий: диалектика драматизма и эпичности в интеллектуальном театре
Автор: Лебедева А.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Драматизм и эпичность - две проблемы, решение которых в современном литературоведении позволяет определить специфику развития драмы в мировом литературном процессе. Цель исследования - анализ функционирования драматизма и эпичности на материале теории эпического театра Б. Брехта, предвосхитившего концепцию пейзажной пьесы Г. Стайн. Привлечение к типологическому анализу пьес Скриба, Островского, Брехта на фоне односторонних контактных связей позволяет выявить сходства и различия техники драматургов при построении сюжета. Интересен вопрос о функции ретардации, нарушающей единство действия в пьесе, а также о влиянии ее места в композиции на зрительскую перцепцию. В работе были использованы приемы литературоведческого наблюдения и интерпретации роли ретардации в композиции пьес. Ключевым исследовательским методом стал типологический анализ пьес Скриба, Островского, Брехта в их связи с оппозицией драматизм/эпичность. Результатом исследования стало определение границ двух типов театра (карусель, планетарий), тяготеющих к полярным тенденциям эмоционального вовлечения реципиента. В оппозиции драматизм/эпичность выявлен диалогизм, обусловленный игровой природой театра. Определены способы введения ретардации в пьесу, среди которых ретроспектива, песенно-лирический комментарий к действию, сближающий поэтику Островского и Брехта. Автор статьи приходит к выводу, что увеличение частотности использования приема ретардации в драме связано с развитием реализма и обусловлено противоречием, относящимся к временному плану пьесы и его отсроченному восприятию зрителем.
Б. брехт, а. островский, э. скриб, театр-карусель, театр-планетарий, драматизм и эпичность, сюжет, реализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147251563
IDR: 147251563 | УДК: 82-254 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-1-117-128
Текст научной статьи Карусель и планетарий: диалектика драматизма и эпичности в интеллектуальном театре
На родственную связь между драмой и эпосом как родами литературы обращали внимание многие ученые. Г. Гегель (вслед за Жан-Полем) в лекциях по эстетике утверждал, что драматический род представляет собой синтез эпического и лирического способов воспроизведения жизни, общность объективного и субъективного начал творчества [Гегель 1971: 419]. Б. Брехт, хорошо знакомый с философией Гегеля, характеризовал свою драматургию как эпическую. В определении понятий драматизм и эпичность существует терминологическая проблема. Данные термины употребляют для обозначения родовых особенностей произведений, типов художественного содержания, а также в качестве идейноэмоциональных категорий. В современной науке последнюю точку зрения поддерживает В.Е. Хализев. Вслед за литературоведом мы используем термины драматизм и эпичность в качестве оценки эмоционального наполнения пьес. Анализ функционирования драматизма и эпичности на материале теории эпического театра Б. Брехта и выступает целью данной статьи. Для достижения цели исследования автор решает следующие задачи: выявление способов реализации драматизма и эпичности в пьесе; анализ роли ретардации как основного композиционного приема эпики в пьесах Э. Скриба, А. Островского, Б. Брехта; оценка взаимосвязи зрительской рецепции с изменением драматической формы. Новизна подхода состоит в обсуждении важных аспектов истории и теории современной драмы. Практическая значимость связана с возможностью применения полученных результатов при анализе сюжета драматического текста. Обратимся к материалу исследования.
Появление в театре ХХ в. концепции режиссера как демиурга действия способствовало активному критическому осмыслению перспектив сцены. Подверглись переоценке ключевые категории в их взаимодействии: драматург, актер, зритель. Эпическая теория Б. Брехта противостоит традиционному драматическому театру. В пьесе «Покупка меди» (“Dialoge aus dem Messingkauf”, 1937-1951) Б. Брехт противопоставил теоретические концепции театра-карусели (karussell-theater) и театра-планетария (planetarium-theater) с целью разграничить драматический и эпический театры. Каждое понятие (карусель, планетарий) схематично воспроизводит наивную модель изображенного мира по типу их воздействия на публику. Так, старинный аристотелевский театр представляет собой образную карусель (тип «К»), на которую попадает зритель спектакля. Движение аттракциона его эмоционально захватывает, создавая иллюзию правдоподобия при отождествлении себя с персонажами пьесы. Драматизм как следствие переживания зрителем ситуаций, которые, по В. Е. Хализеву, «воплощаются в поведении внешне ярком и богатом выразительностью» [Хализев 1978: 58], усиливает напряжение. Все средства выразительности театра как синтетического вида искусства при типе «К» направлены на достижение одной цели - дать зрителю иллюзию власти над каруселью, то есть над миром в его тревожной неустойчивости. Наконец, привести к катарсису. Однако в объективной реальности очевидна ситуация зависимости индивида от заданного движения карусели. Зритель пассивен в своем переживании - он волен лишь следовать за перевоплощениями актера, заражаясь его настроением. Известно, что персонажи пьес в драматургии внешневолевого действия полностью находятся во власти судьбы, рока. Фатальное видение жизни проявляется и в структуре архетипической пьесы, навязывая зрителю ощущение предопределенности событий в соответствии с высшим (авторским) замыслом, а не логикой характеров. Так, персонажи классической драмы должны были проявить личные качества (ум, инициативу), чтобы достигнуть успеха. В античности способность к интригосложению является свойством сознания автора, за счет чего интрига управляет сюжетом. По мнению Дж. Гасснера, театральность как игровой элемент является неотъемлемым свойством драматургии, поэтому уже «древнегреческая драма не была реалистически подражательной» [Gassner 1956: 141]. Под театральностью традиционно принято понимать то подчеркнуто искусственное, условное, что есть в драме. Характерно, что термин «театральность» применяется по отношению как к театру, так и к другим видам искусства, что расширяет его значение. В частности, по Р. Барту, «феномен театральности» состоит в «информационной полифонии… то есть особой толщи знаков (une épaisseur de signes)» [Барт 1989: 276]. Подчеркнутая искусственность репрезентации является ключевым компонентом эпической теории Брехта. Когда условная драматическая карусель завершает полный оборот, от завязки к успокаивающей развязке, иллюзия полностью рассеивается. В концепции театра-карусели акцентируется исключительно развлекательная функция старого театра. Важно отметить, что зритель здесь может находиться только внутри предлагаемых обстоятельств, что мешает ему самостоятельно критически их оценивать. Брехт полностью не отвергает традиционных для театра функций «развлечения и поучения», но предлагает «наполнить их новым содержанием» [Брехт 1965: 92]. Реформа предполагала как со- циально востребованное наполнение пьесы, так и подходящую для трансляции актуальных идей форму.
На наш взгляд, яркой иллюстрацией театра-карусели служит творчество Э. Скриба, достигшего максимальной выразительности формы в традиционном сюжетосложении. В основе «хорошо сделанной драмы» (pièce bien faite) лежит драматизм положений. Во французском театре периода Реставрации Скриб, в противовес романтикам, утверждал возможность благополучной и счастливой жизни. Сквозные сюжеты своих пьес Скриб создавал на фоне значимых исторических событий, которые он низводил до уровня салонных сплетен, за что некоторые современники его критиковали. Однако техника драматурга была образцовой: «Действие представляет собой череду подъемов и спадов, цепь недоразумений, эффектов или неожиданных развязок. Цель всего этого очевидна: постоянно удерживать внимание зрителя, используя для этого натуралистические приемы» [Пави 1991: 423]. В пьесах Скриба заметно преемственное влияние ренессансной комедии дель арте, где линия серьезных персонажей была очерчена бледнее и потому менее притягательна для публики, чем комичные импровизации пронырливых дзанни. Впрочем, речь не столько о конкретных влияниях, сколько о типологических схождениях благодаря общности черт, объединяющих персонажей.
Ретардаций (от лат. retardatio - «запаздывание»), нарушающих единство действия, у Скриба мало. Драматург вводит событийную ретардацию перед кульминацией пьесы через неожиданность в сюжете. Авторская преднамеренность, проявляющая себя в сюжетосложении, находит прямое выражение в ироничном замечании персонажа пьесы «Стакан воды, или Причины и следствия» (“Le Verre d’eau, ou les Effets et les causes”, 1840) лорда Болингброка о значении случайности в крупных делах:
Абигайль. А вы можете создать эту песчинку?
Болингброк. Нет, но если я найду ее, то подброшу под колесо… Талант вовсе не в том, чтобы соперничать с провидением и выдумывать события, а в том, чтобы уметь ими пользоваться. Чем ничтожнее они, тем, на мой взгляд, они важнее. Великие следствия малых причин!.. Вот моя система!.. Я верю в нее и скоро дам вам доказательства ее правильности [Скриб 1960: 394].
Идея власти случая связана с видением жизни в ее богатстве и фатальной непредсказуемости. Традиционное сюжетосложение воплощает прецедентную картину мира, свойственную мифологическому сознанию, при котором человек от- казывается «наделить значимостью <...> нерегулярные события (то есть события, не имеющие архетипической модели)» [Элиаде 1998: 132]. Сила обстоятельств, проявляющая себя в пьесах аристотелевского типа, потенциально предстает как созидательной, так и разрушительной. Позже Б. Шоу в эссе «Квинтэссенция ибсенизма» (1891) объявит о втором типе драматического действия, основанном на внутренней, психологической динамике героев [см.: Шоу 1963: 65]. Уплотненное действие в драматургии Скриба является максимально активным благодаря ухищрениям интриганов (таковы и, например, комедии «Дон Жуан, или Каменный гость» Ж.-Б. Мольера, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» Н. В. Гоголя). В пьесах Скриба заметно преобладание диалогов-поединков, требующих плутовской инициативности, предприимчивости и неутомимости. Так, в сатирической комедии «Бертран и Ратон, или Искусство заговора» (“Bertrand et Raton, ou L’art de conspirer”, 1833) придворный интриган Бертран в беседе с Королевой о будущем раскрывает свой искусный замысел относительно Ратона:
Королева (оживленно). Неужели вы думаете, что ему удастся поднять народ?
Ранцау . Ему одному?… Нет, ваше величество.
Королева . Но вчера ему это удалось.
Ранцау . Тем больше оснований, что сегодня ему это не удастся; власти предупреждены, они настороже и приняли все меры. Кроме того, ваш Ратон Буркенстафф не способен действовать по собственной инициативе! Это орудие, машина, рычаг, который, будучи приведен в действие умелой или мощной рукой, может оказать большие услуги, но только при условии, что он не будет знать, для кого и как он старается!.. Если он захочет понять это, он уже ни на что не будет годен [Скриб 1960: 207].
Консерватизм Скриба проявляется в нежелании выйти за тесные рамки концентрического сюжета, из-за чего характеры оказывались шаблонными, а благополучная развязка предсказуемой. Обращение только к чувственному опыту зрителя снижало высокую общественную роль театра и уже подвергалось критике в классической эстетике в полемике между Г. Гегелем и М. Мендельсоном: «Самым дурным, менее всего подходящим для духа отношением между ним и художественным произведением является чисто чувственное восприятие этого произведения <…> Человек не находится в таком отношении вожделения к художественному произведению» [Гегель 1968: 42-43]. Всё же в мировой театральной ситуации середины XIX в. «встречные течения», как обозначил А. Н. Веселовский пе- реработку чужого опыта воспринимающей культурой [Веселовский 1889: 115], начались с творчества Эжена Скриба. Ранний Г. Ибсен пробовал в драматургии некоторые приемы, характерные для поэтики Скриба. Однако, по словам Г. Иегера, автора одной из первых монографий об Ибсене, «в литературном отношении он чувствовал себя весьма мало расположенным к произведениям этого писателя» [Иегер 1892: 82]. В комедии «Союз молодежи» (“De unges forbund”, 1869) Ибсен впервые обращается к современной социальной проблематике, ведя водевильную интригу амбициозного адвоката Стенсгора для запутывания сюжетных узлов. Пышная развязка, состоящая сразу из трех свадеб, сохраняет конфликт комедии в рамках концентрического сюжета, что не могло удовлетворить эстетическим поискам Ибсена. Скрибизм к 70-м гг. ХIХ в. уже изжил себя и стал для норвежского драматурга ученическим этапом в поиске необходимой формы. Ибсен одним из первых среди литераторов обратил внимание, что легкий водевильный характер таких драм не подходит для трактовки серьезных общественных проблем – форма обесценивает содержание, важность поднимаемой темы обращается в шутку, достояние театральной условности. П. Сонди связывает кризис европейской драмы конца XIX в. с тематической сменой относительно прежних эпох: таким образом благодаря «динамическому взаимопроникновению субъекта и объекта» новой драмы «противостоит их статическое столкновение в содержании» [цит. по: Филиппов-Чехов 2020: 136].
Известно, что главная функция любого искусства – эстетическая. Театр вовсе не обязан обладать выраженной общественно-политической повесткой ради собственного развития. Однако религиозные истоки драмы влияют на ее тематический диапазон, исторически сохраняя социально-нравственную функцию наряду с развлекательной. Ибсен, а за ним и его младшие современники (А. Чехов, Г. Гауптман, М. Метерлинк и др.) переносят внешнюю интригу в область внутреннего действия. «В то время как внешнее действие на сцене забавляет, развлекает или волнует нервы, внутреннее заражает, захватывает нашу душу и владеет ею» [Станиславский 1988: 290], – высказал свое мнение о драматургии Чехова К. С. Станиславский. Борьба идей в новой драме вовлекает идеального зрителя в активную духовную работу, размышление и сотворчество. Однако и здесь достижение зрителем катарсиса возможно только через мимезис, с чем полемизировал Брехт как режиссер. Для идеи эпического театра-планетария (тип «П») Брехта важна потенциальная возможность зрителя контролировать происходящее с ним во время спектакля, всматриваться и критически оценивать. В. Е. Хализев под эпическим в драме понимал «растяжение действия в пространстве и времени, при котором драматург, уподобляясь повествователю, как бы говорит читателям и зрителям: а теперь перенесемся туда-то <…> Театр “эпический”, опирающийся на раздробленные сценические эпизоды, осваивает изображаемое действие как нечто прошедшее» [Хализев 1978: 82]. Зрителю дается шанс дистанцироваться от удвоенной художественными средствами реальности, увидеть мир на осознанном расстоянии во всей его тревожной нестабильности. Позиция снаружи, а не внутри аттракциона порождает эффект очуждения (verfremdungseffekt). Возможность осуществлять «многократный переход от образа к понятию и от понятия к образу» [Днепров 1960: 165] позволяет зрителю оценивать происходящее с внешней точки зрения наблюдателя. В частности, актер в эпическом театре не стремится полностью слиться с ролью, как того требует система К. С. Станиславского, а создает определенные границы и словно смотрит на происходящее со стороны вместе со зрительным залом. Дистанция достигается благодаря выходам из роли (обращение напрямую к публике, повторы, зонги), предусмотренным в тексте пьесы и имеющим для действия ретардирующее значение.
Сам прием очуждения вместе с идеей вывести человека «из автоматизма восприятия» перекликается с гегелевской теорией отчуждения и понятием «остранение», впервые предложенным В. Б. Шкловским в 1917 г. в статье «Искусство как прием» [Шкловский 1917]. Брехт познакомился с концепциями русских формалистов в 1935 г. во время очередного визита в Москву, что отразилось в смене терминологии в его статье «Эффекты остранения в китайском театральном искусстве» (1936) [Гюнтер 2009: 60]. Во избежание путаницы И. М. Фрадкин предложил переводить брехтовский термин как очуждение. Общность подходов формальной школы и эпической теории Брехта наблюдается во взглядах на сюже-тосложение. В статье «Связь приемов сюжето-сложения с общими приемами стиля» (1919) Шкловский указывает приемы, усиливающие ощущение фабулы: повтор, ступенчатость, торможение и др. Схожие взгляды на значимость ослабления движения сюжета высказывал Брехт, утверждая необходимость строить фабулу «с перерывами», способствующими очуждению, а именно «необходимо отдельные события драмы связывать между собой так, чтобы узлы были очевидны; события не должны следовать одно за другим неприметно; нужно, чтобы в промежутках между ними могло родиться суждение» [Брехт 1965: 204]. Брехт видел свою цель в том, чтобы способствовать взаимодействию эстетического опыта искусства и повседневности и выступал за литературизацию театра. В его текстоцентрических постановках основой спектакля является пьеса. Поэтому основная задача драматурга – в первую очередь организовать драматический материал таким образом, чтобы режиссер и актер могли правильно выстроить коммуникацию со зрителем. В рамках процесса переосмысления модели взаимодействия со зрителем, начавшегося на рубеже XIX–XX вв., примечательна теория перформативности Э. Фишер-Лихте [см.: Фишер-Лихте 2015]. Что касается идей Брехта, то их исходной точкой была прямая дидактическая установка по отношению к зрителю, рассчитанная на активное вмешательство театра в жизнь. Говоря языком психологии, по сути, Брехт предлагает применять деятельностный подход по отношению к зрителю, выводя его из подчиненной позиции объекта в позицию субъекта на равных с другими участниками театрального процесса (драматургом, режиссером, актером). Равноправная позиция делает единственным объектом влияния и герменевтического познания непосредственно действие спектакля. М. Векверт по поводу пьес самого Брехта заметил, что без практического применения теории “verweigern diese Stücke einfach den Dienst. Sie werden langweiliger als alle anderen Stücke, denn bei denen kann man sich wenigstens auf die äußere Spannung verlassen” [Wekwerth 2009: 27]: «эти произведения просто отказываются служить. Они получаются скучнее всех других пьес, потому что в тех, по крайней мере, можно положиться на внешнее напряжение» (перевод наш. – А. Л.). Это тонкое наблюдение подмечает основную особенность предметной композиции драматургии Брехта: фокус внимания читателя его пьес автор намеренно смещает с событийного плана в сторону рефлексии над характерами.
При всей оригинальности теории Брехта, эпические черты уже существовали в средневековых мистериях, классических театрах Азии, елизаветинском и классицистическом театрах Европы (например, у У. Шекспира и К. Гольдони, переводчиком которых был А. Островский). В классицистической драме, замкнутой в единствах места и времени, главный интерес для зрителя представляет развязка. Ее приближение возможно благодаря действенному слову. Диалог-поединок, обладающий в драме основной силой развития сюжета, является также способом представления действующих лиц. Благодаря активному освоению драматургией эпических элементов «меняется роль диалога как основного средства создания речевого портрета персонажа» [Картавцева 2018: 197], что неизбежно привело к ослаблению пространственно-временной динамики драмы. По наблюдению О. А. Журавлевой, традиционно «сюжет драмы динамичен, а композиция и хронотоп прерывисты, в то время как сюжет романа в известном смысле последователен, а хронотоп непрерывен и как бы растянут, поскольку действия персонажей так или иначе призваны отодвигать развязку» [Журавлева 2021: 33]. Сближение драмы с романом возможно благодаря последовательному включению в текст пьесы ретардаций: второстепенные персонажи, ретроспектива в прошлое героев, песеннолирический комментарий к действию и др. Такой ход позволяет драматургу равномерно распределить внимание читателя между всеми этапами действия и одновременно служит средством характеристики персонажей. Во второй половине ХIХ в. в России композиционный прием ретардации практиковал А. Н. Островский, в связи с чем современники (Ф. М. Достоевский, П. Д. Боборыкин и др.) нередко называли его драматургию эпической. Это связано с сознательным отказом драматурга от такого явного приема театральности, как лихо закрученная интрига, вследствие тяготения к масштабам романной всеохватности.
Вхождение репертуара А. Островского на подмостки театров Германии середины ХIХ в., начавшееся при жизни драматурга, было трудным не только по социально-экономическим причинам. Отчасти это связано с вольным переводом его пьес на немецкий язык, представлявшим свободное обращение с материалом из-за его «несценичности». Пьесы Островского казались публике, воспитанной на энергичных французских мелодрамах Скриба, Ожье, Сарду, Дюма-сына, затянутыми. Поэтому переводчики позволяли себе значительно сокращать диалоги и вырезать целые сцены, принципиальные для восприятия оригинала. Профессор А. Брюкнер, высоко оценивая комический талант А. Островского, заметил, что он “niemals reifst er den Dialog an der entscheidenden Stelle ab, wo bei dem europäischen Dramatiker der Vorhang förmlich von selbst fällt; immer wird er ihn noch um Unbedeutendheiten fortsetzen, wird die Erregung abschwächen, abfallen lassen” [Brückner 1905: 460]: «никогда не прерывает диалог в решающей точке, когда у европейского драматурга занавес буквально падает сам собой; он всегда продолжит его по пустяковому поводу, ослабит волнение, даст ему угаснуть» (перевод наш. – А. Л. ). По результатам неоднократных визитов в Москву Б. Брехт был хорошо знаком с классическим наследием А. Островского. В частности, он видел постановки «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Доходное место» В. Мейерхольда, «Горячее сердце» К. Станиславского.
Позднее традиция А. Н. Островского неожиданно отозвалась в немецкой театральной практике. В 1955 г. идеолог эпического театра инициировал постановку «Воспитанницы» (1859) в Берлинер Ансамбль под режиссурой А. Гурвиц. По воспоминаниям Б. Райха, выбор Брехтом ранней пьесы среди обширного наследия Островского его не удивил, потому что «в пьесе много эпиче-ски-поучительного, зато сравнительно мало аристотелевской драматургии, с ее конденсацией и нарастанием людских столкновений и противоречий» [Райх 1972: 332]. Сам Брехт в заметке о процессе постановки «Воспитанницы» указывает судьбоносную для Нади сцену чаепития с помещицей как ключ к обнаружению скрытой в пьесе социальной повестки [Брехт 1960: 219]. «Относительная торопливость» в показе актерами этой второстепенной сцены, на наш взгляд, уже задана драматургом введением в текст пьесы досужего разговора :
Василиса Перегриновна. Эка жизнь! Эка жизнь! Не от чаю я, милая, высохла, от обиды людской я высохла.
Гавриловна. Обидишь вас! Вы сами всех обижаете, точно вас что поджигает.
Василиса Перегриновна. Не смеешь ты так со мной разговаривать! Ты помни, кто я. Я сама была помещица; у меня такие-то, как ты, пикнуть не смели, по ниточке ходили. Не давала я вашей сестре зазнаваться.
Гавриловна. Были, да сплыли. То-то вот бодливой корове бог рог не дает [Островский 1974: 178].
Для создания типов досужие разговоры имеют определяющее значение, ведь «неторопливые и приносящие удовольствие участникам, такие беседы вводят в круг повседневных интересов персонажей» [Чернец 2019: 81]. При этом диалог увлекает с той же силой, что и распутывание внешней интриги в старинной драматургии. Постепенное освобождение от догматизма нормативных поэтик позволило драматургам устремить взгляд от исключительной личности к обычному человеку, поэтому театральное действие отошло от изображения игры страстей. Это было продиктовано усилением интертекстуальных связей между литературой, театром, живописью и музыкой, в результате чего произошла модификация традиционных жанров. Герои-авантюристы в драматургии второй половины ХIХ в. отошли на второй план, уступив место характерам, которых беспокоят вопросы нравственности, чувство духовной ответственности за моральный облик. Высшая степень характерности - тип. Известно, что Островский создал целую галерею типов (самодура, делового человека, красавца-мужчины и др.).
В литературоведении давно закрепилось противопоставление пьес А. Островского с четкой фабулой репертуару А. Чехова как представителей разных эпох развития русского театра. Однако эпически размеренное творчество Островского содержит внутренний драматизм, предваряя развитие новодрамовского реализма. Как справедливо заметила Л. Г. Тютелова: «Русская драма с момента своего рождения оказывается способна выразить идею относительной автономности судьбы человека и мира» [Тютелова 2023: 36]. Счастливые концовки пьес Островского обычно обусловлены ограничениями, накладываемыми жанром комедии, которую традиционно должен венчать благополучный, эмоционально приподнятый финал. Зачастую концовки у Островского психологически недостоверны и не могут претендовать на полное освобождение от сюжетных узлов (в развязке пьесы «Красавец-мужчина» отходчивая Зоя выражает надежду на второй шанс снова полюбить и быть любимой циником-мужем; будущий учитель Петя Мелузов из пьесы «Таланты и поклонники», потерявший расположение Негиной, в финале не теряет веру в прогрессивную силу образования в решении женского вопроса). Традиционная развязка снимает локальный конфликт, чего нельзя сказать о пришедших им на смену конфликтах постоянных. Л. В. Чернец по поводу неестественных развязок Островского отмечает: «Будущее героев он нередко предлагает домыслить зрителю - на основании представленных в пьесе характеров» [Чернец 2020: 12]. Внутреннее действие в пьесах Островского подталкивает развитие действия внешнего. Переосмысление конфликта и окончательный поворот пьесы к драматизму, скрытому в повседневности героев, совершился в новой драме. Так, А. П. Чехов в пьесах отказывается от единства действия в привычном понимании, а также от единства времени, заменяя его монтажным эффектом. Новая драма, сформировавшаяся на рубеже XIXXX вв., доказала, что классицистические единства места, времени и действия, а также конфликт, благополучно разрешающийся в развязке, не являются обязательными.
Для экспозиции пьес Островского характерен ретроспективный взгляд (например, разговор Кнурова с Вожеватовым об обстановке в доме Огудаловых в драме «Бесприданница»). Исследование развития человеческих взаимоотношений во времени соответствует поэтике психологического романа (получившего распространение в творчестве Ф. М. Достоевского), останавливающегося на важных подробностях жизни персонажа. Устойчивый сюжетный конфликт в драме нуждается в развернутой (порой до 3 ак- тов) ретроспективе, раскрывающей его сущность. «Основные мотивы действия заключены в прошлом, возможное разрешение конфликта – в будущем» [Хайченко 2020: 380], – рассуждает Е. Хайченко о мифе об Атридах как основе трагедии Эсхила «Агамемнон», что правомерно и для эпических пьес Островского. Введение прошлого персонажей позволяет судить не об интриге, но о характерах действующих лиц и о социальной среде, их сформировавшей.
Драматургии самого Брехта свойственна открытая композиция: сюжет пьесы разворачивается за счет смены последовательных сцен, условно самостоятельных по отношению друг к другу. Некоторые исследователи связывают особенности композиции пьес Брехта с влиянием экспрессионизма. И. М. Фрадкин опровергает эту теорию, считая, что Брехт «шел своей особой дорогой, продолжая и развивая шекспировскую традицию в самом широком ее значении» [Фрадкин 1965: 311]. Невозможно не согласиться с подобной оценкой творчества Брехта, никогда не отказывавшегося от основы пьесы – драматического действия. Только это действие вместе со зрелищностью обрело у него осязаемые аналитические черты. Ретроспективный взгляд, способствующий очуждению, сближает поэтику Брехта с поэтикой Островского: пьеса-парабола «Добрый человек из Сычуани» (“Der gute Mensch von Sezuan”, 1941) открывается обращенным монологом водоноса Вана о своем тяжелом ремесле, а диалоги в его ранней комедии «Барабаны в ночи» (“Trommeln in der Nacht”, 1920) на протяжении всего действия обращены к общему романтическому прошлому Анны и Краглера, скорректированному войной. Все средства эпического театра устремлены к тому, чтобы зритель воспринимал происходящее на сцене не как реальную жизнь за четвертой стеной, а как рассказ о жизни. Для создания дистанции между сценой и зрителем немецкий драматург активно осваивает паратекст, который актеры должны были произносить в зал. Пример типичной оценочной ремарки, предваряющей сцену, находим в рамке хроники «Мамаша Кураж и ее дети» (“Mutter Courage und ihre Kinder”, 1939):
В том же году в битве под Лютценом пал шведский король Густав Адольф. Мир грозит мамаше Кураж разорением. Отважный Эйлиф совершает один лишний подвиг и находит бесславный конец. (III, 59) (выделено нами. – А. Л. ).
Брехт сообщает своим пьесам притчевый характер благодаря музыкальным вставкам – зон-гам, необходимым для выражения субъективных чувств героев по отношению к прошлому или будущему. Зонги, в свою очередь, также способствуют эффекту очуждения: «Разрушение орга- нической непрерывности действия усиливается тем, что и без того разрозненные, не спаянные между собой эпизоды прерываются эстрадным пением (зонгом), совершенно не обязательным для развития сюжета… <…> Зонг разваливает сюжет и убивает сценическую иллюзию» [Зингерман 1979: 224]. Так, например, песня Кураж, звучащая в начале, седьмой картине и финале пьесы, является лейтмотивом всего произведения. Для маркитантки война, несмотря на все личные горести, –источник коммерческого обогащения. Музыкальность, хотя и в меньшей степени, свойственна многим пьесам Островского («Бедность не порок», «Доходное место», «Бесприданница» и др.), с той разницей, что адресатом поэтического текста обычно является персонаж, а не зритель спектакля. Чередование свободных, но психологически важных эпизодов с привычным парированием репликами между героями сообщает пьесе ритм действия и отдыха. Лирические отступления у Островского служат реалистическим средством раскрытия характеров, а также дают возможность передать зрителям важную информацию, которую нельзя выразить прямо в диалоге. Первое и последнее действия «Грозы» (1859) открываются песнями Ку-лигина, любующегося панорамой Волги. Ключевой мотив одиночества Катерины, мечты которой так и остались мечтами, созвучен образу тоскующего лирического героя. Таким образом, Островский и Брехт нарушают единство действия сознательно, с установкой на определенную реакцию публики, что в терминологии Брехта и является очуждением.
Амбивалентная сущность драматургии – в принадлежности пьес (в том числе lesedrama) к художественной литературе и потенциальной возможности их реализации на сцене. При этом с середины XX в. театральные поиски ведут к обрядовым, праздничным первоистокам с установкой на отказ от текстоцентричности. П. Брук в работе «Пустое пространство» (англ. “The empty space”, 1996), выделяя елизаветинский театр, подметил, что всякий, кто пытается оживить театр, обычно возвращается к народному источнику [Brook 1996: 78]. В разные эпохи этот возврат осуществляется на определенных уровнях формы и содержания. Так, театр Островского органично внедрил на русскую сцену народную речь, узнаваемую и современными зрителями. Национальный колорит проявляется у драматурга не только в теле пьесы, но и в ее раме – нередко заглавия представляют собой пословицы («Свои собаки грызутся – чужая не приставай», «Не в свои сани не садись» и др.), выражающие специфику русской картины мира. Красочный язык позволил Островскому наделить своих персона- жей особыми национальными и сословными чертами, за счет которых современники могли легко считывать знакомые типы. Верное изображение купеческого быта именно через язык (при всей важности диалога для развития сюжета драмы, в отличие от других родов) позволяло не только сохранить в пьесах психологическую достоверность изображения характеров, но и развернуть широкую панораму прошлого в настоящем. В жанровом отношении Островский подчеркивал значимость охвата статичного пространства, называя свои комедии картинами, сценами и др. Очевидны параллели глубинной связи театрального пространства с пейзажем, рисующим образ мироздания.
Сатирические пьесы Островского («Бешеные деньги», 1869; «Лес», 1870; «Волки и овцы», 1875 и др.) выделяются остротой конфликта и стремительно развивающейся интригой. Ретардаций, задерживающих развитие сюжета, становится меньше. Творчество русского драматурга испытало прямое влияние французской «хорошо сделанной пьесы», с принципами построения которой Островский был знаком. Это подтверждает письмо Островского от 1874 г. И. С. Тургеневу относительно постановки в Европе «Грозы». Модель легкой остроумной пьесы отразилась в комедии «На всякого мудреца довольно простоты». И все же В. И. Немирович-Данченко, читая актерам лекции об Островском при постановке «Мудреца», заметил: «В пьесе много эпического покоя Островского» [Станиславский 1988: 564]. По наблюдению А. И. Журавлевой, «чем дальше, тем меньше антагонизма будет в пьесах Островского между “эпическим” и “театральным”, тем органичнее будет сочетание этих двух стихий» [Журавлева 1981: 154]. Насыщенные действием поздние комедии «Красавец-мужчина», «Таланты и поклонники» сохранили широту эпического взгляда за счет включения в сюжет комментирующих и анализирующих сцен, сплетения нескольких сюжетных линий на фоне основного конфликта, присутствия второстепенных персонажей. Центр творческого внимания Островского всегда локализован на содержании -не эффектная интрига (в суть которой читатель нередко посвящен уже в завязке), а характеры протагонистов и их оппонентов, их поведение в быту составляют драматическое напряжение пьес. Сознательная сосредоточенность на бытописании, психологической выверенности лиц вернула Островского к собственным приемам построения драматической формы.
Брехтовская концепция статичного театра-планетария перекликается с вырастающей из нее теорией пейзажной пьесы (landscape play) Г. Стайн, подробно описанной Х.-Т. Леманом в книге «Постдраматический театр» (1999, пер. с нем. - 2013). Г. Стайн в лекции «Пьесы» (1935) оставила краткие пояснения своей теории (с частыми примерами из живописи, откуда и берет свое начало наряду с идеями С. Виткевича), направленной против временной динамики в драматургии. Как и идеи Брехта, пейзажная теория направлена прежде всего на изменение восприятия адресата, переставшего быть пассивным объектом в театре. Стайн в этом отношении идет дальше Брехта - она хочет не просто дистанцировать зрителя от сюжета, предложив ему рационализаторскую функцию, а дать свободу спокойно созерцать пространство пьесы с целью избавить его от «непрерывного усилия» [Леман 2013: 101]. Самостоятельную роль в драматическом действии пейзаж начинает играть уже у Г. Ибсена и А. Чехова, позволяя осмыслять через призму живописи специфику современного театра. Экспериментальные поиски теоретиков путем перекодировки драматургии на языки других родов и искусств во многом связаны с противоречием, относящимся к временному плану пьесы и его отсроченному восприятию зрителем. Пейзажная драма строится на принципах «продолженного настоящего» (prolonged present), которое реализуется в «начинании снова и снова» (beginning again and again»), постоянном повторении (constant recurring), включении всего (including everything) [Stein 1970: 98]. Для понимания сущности пейзажного театра важна мысль С. Виткевича о бессознательном в русле его теории «чистой формы» о постановке-сне, которая «вызывала бы метафизические рефлексии и эстетические эмоции» [Хорев 2012: 14]. Освобождение пейзажной пьесы от принципов традиционной драматургии закрепило ее в статусе драмы для чтения, трудной для сценической постановки. Несмотря на это, стайновские произведения неоднократно ставились на оперной сцене - в частности, весьма успешна театральная судьба оперы «Доктор Фауст зажигает огни» (англ. “Doctor Faustus Lights the Lights”, 1938).
Зрелищность является как фундаментом, так и вечным источником динамики в драме. «Театр -это преображение на всех уровнях, это метаморфоза», - справедливо утверждает немецкий театровед Х.-Т. Леман, поэтому, отбросив действие в постдраматическом театре, «мы вовсе не приходим к концу театра вообще» [Леман 2013: 121]. Выделяя необходимый для существования театра минимум, исследователь не раскрывает его сущность. Метаморфоза может быть воспринята как взаимная смена счастья и несчастья, что уже отмечалось в античных риториках как неотъемлемый элемент действия. Со спорной лемановской теорией полемизирует Ю. М. Барбой: «Выходит, если театр и перестал зависеть от драматическо- го действия пьесы, то всего лишь пьесы одного рода; ее драматическое действие – авторитетный, но не единственный вариант и уж тем более не универсальная форма» [Барбой 2016: 291]. Внешнее напряжение традиционной катарсической драмы, как доказала театральная практика начала XX в., уступило место вдумчивой эпической расслабленности с ее собственными художественными доминантами. При этом драматизм как примета театральности всегда свойственен драме в той или иной степени. Особенностью собственно театральной драмы является положение о том, что последняя не пытается выдать театр за нечто иное: если по сцене проходит кошка, Сальвини может отдыхать.
Драматургия эволюционирует только вне отрыва от социальной повестки, постоянно открывая в себе самой грани для появления новых эстетических концепций, отвечающих основам театральной выразительности. Интерпретация концепции Б. Брехта о двух типах театра позволяет раскрыть потенциал категорий драматизма и эпичности для теории драмы. В результате типологического анализа пьес Скриба, Островского, Брехта мы пришли к выводу, что драматизм достигается благодаря преобладанию внешней сюжетной динамики (карусель), а эпичность – сочетанием динамики со статикой (планетарий). Главное, на наш взгляд, различие типов театра в брехтовской эстетической программе состоит в том, куда направлено внимание драматурга (а за ним – и зрителя). Карусельная драматургия реализует мифологическую картину мира через диалоги-поединки, продвигающие сюжет. Так, непрерывное развитие действия в пьесах Скриба нагнетает напряжение зрителя перед развязкой и способствует появлению драматизма. Введение событийной ретардации через неожиданность в сюжете усиливает эффект саспенса. Напротив, для драматургии Островского, Брехта событийность – это необходимый фон, служащий для выявления характеров. Последовательное введение в пьесу ретардаций позволяет зрителю встать на точку зрения наблюдателя, заняв принципиально внешнюю позицию по отношению к пьесе. Ритмическая фрагментарность действия обладает для зрителя успокаивающим свойством и сообщает драме эпичность. Повествовательная стратегия Островского, Брехта обусловлена развитием реализма с вниманием к социальнонравственной функции театра.
Брехтовская философская система появилась как открытая экспериментальная площадка и постоянно дополнялась ее автором. В уточнениях Брехта «Дополнение к Малому Органону» (1954) уже нет строгого разделения драматического и эпического театра как диаметрально противопо- ложных систем. Действие, как и связанный с ним драматизм, является неразложимой основой пьесы с античных времен. Старая и новая театральные парадигмы неотделимы от исторических первоистоков и могут полноценно существовать только в рамках взаимодополняемого целого. Действие может выступать на первый план, полностью захватывая внимание зрителя, или намеренно ретардироваться драматургами ради конкретной эстетической установки. Однако действенность, связующая элементы драмы в единое целое, всегда сохраняется. Концепция М. М. Бахтина о диалогичности слова и культуры актуализирует брехтовскую тенденцию последних лет: «у каждого смысла будет свой праздник возрождения» [Бахтин 1986: 392].