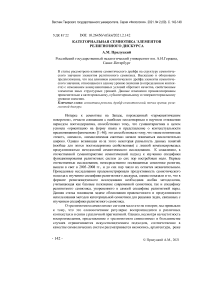Категориальная семиотика элементов религиозного дискурса
Автор: Прилуцкий Александр Михайлович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено влияние семиотического дрейфа на структуру семиотического значения элементов религиозного семиозиса. Высказано и обосновано предположение, что под влиянием семиотического дрейфа элементы семиотического значения, относящиеся к одному уровню значения (в определенном контексте) с изменением коммуникативных условий обретают качества, свойственные элементам иных структурных уровней. Данные изменения проанализированы применительно к категориальному, субкатегориальному и гиперкатегориальному уровням значения.
Семиотика религии, дрейф семиотический, точка зрения, религиозный дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/146282258
IDR: 146282258 | УДК: 81’22 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.142
Текст научной статьи Категориальная семиотика элементов религиозного дискурса
Интерес к семиотике на Западе, порожденный «герменевтическим поворотом», отчасти совпавшим с наиболее плодотворным в научном отношении периодом постмодернизма, способствовал тому, что гуманитаристика в целом усвоила «ориентацию на форму языка и представление о контекстуальности предпонимания феноменов» [1: 46]; это способствовало тому, что такие понятия как «текст», «символ», «символическая система» начали пониматься исключительно широко. Однако возникшая из-за этого некоторая размытость данных понятий (вообще для эпохи постмодернизма свойственная) с лихвой компенсировалась продуктивностью методологий семиотического исследования. К сожалению, в отечественной гуманитаристике семиотический подход к изучению специфики функционирования религиозных систем до сих пор востребован мало. Первые отечественные исследования, непосредственно посвященные семиотике религии, вышли в свет в 2005–2008 гг., и до сих пор число их остается незначительным. Проведенные исследования продемонстрировали продуктивность семиотического подхода к изучению специфики религиозного дискурса, однако показали и то, что в формате религиоведческого исследования необходима особая методология, учитывающая как базовые положение современной семиотики, так и специфику религиозного семиозиса, укорененного в самоей специфике религиозной веры. Данная статья посвящена задаче обоснования правомочности и продуктивности использования методов категориальной семиотики для решения задач, связанных с изучением специфики религиозного семиозиса.
О «религиозном символизме» сегодня мало кто не говорит, мы привыкли к тому, что это словосочетание регулярно воспроизводится в различных контекстах и в связи с различной прагматикой. Однако, несмотря на частотность воспроизведения, представление о «религиозном символизме» в большинстве случаев ограничивается искусствоведческим подходом, соответственно в качестве символических систем рассматривается иконопись, архитектура, реже
литургика в широком смысле. Содержание теологических традиций, то есть собственно богословский дискурс, в категориях семиотики анализируется весьма редко. Однако популярное мнение о том, что религиозный символизм преимущественно проявляется в области церковного искусства, главным образом в шедеврах церковной археологии – церковных древностях, – является в корне ошибочным.
Семиотика церковного искусства, безусловно, богатая, разнообразная и сложная, является вторичной, поскольку черпает и ресемиотизирует свои элементы из религиозной концептосферы, в которой начинается процесс семиозиса, завершающей стадией которого становится воспроизведение символа средствами художественных метадискурсов. Для того, чтобы крест стал символом и вошел в церковное искусство, должно было произойти его церковно-догматическое осмысление, сложиться теологически фундированная традиция почитания Креста, сформироваться его семантика. Иными словами: именно религиозная традиция как таковая, традиция богословская, и только потом уже эстетическая, формирует семиотическое содержание религиозных концептов, которые потом находят свое выражение в пространстве религиозного искусства.
Традиция всегда семиотична и герменевтична. Живая традиция является пространством актуального семиозиса, в котором постоянно происходит процесс развития смысла, символизации и метафоризации элементов ее дискурса, в ходе которого создаются и вступают во взаимодействие семиотические системы различного уровня. Поэтому семиотическое исследование вовсе не обязательно должно быть исследованием искусствоведческим; материалом для него могут служить вероучительные установки религии (символизм выражения религиозного мировоззрения в понятиях и терминах), аскетические правила (символизм цели – «приблизиться к Богу»), концепты народной религии (символический синкретизм, проблема интердискурсивности), гомилетическая и назидательная литература (семиотика риторического дискурса) и т.д. Семиотика религиозной эстетики, разумеется, не может быть исключена: иное дело, ей нельзя ограничиваться.
Анализ специфики религиозного семиозиса ранее позволил исследователям сделать вывод о том, что наиболее распространенным типом семиотического дрейфа принято считать свойство элементов семиозиса динамично менять соотношение признаков знака и символа. Данная разновидность семиотического дрейфа детально описана в трудах профессора В.Ю. Лебедева на примере семиозиса ритуалосферы, элементы которого обладают наибольшей семиотической мобильностью [4]. Анализ специфики семиотического дрейфа позволил нам ранее сформулировать две базовые аксиомы: аксиому невозможности чистого семиозиса и аксиому динамического семиозиса. «Согласно первой, такие традиционные понятия теоретической семиотики, как чистые «знак» и «символ», представляют собой теоретические абстракции, продуктивное использование которых ограничивается сферой концептуализации, но не анализа конкретных текстов, поскольку в дискурсах семиосферы их не существует. В текстах существуют лишь элементы семиозиса, которые обладают как знаковым, так и символическим потенциалом, причем в зависимости от контекста употребления они варьируют качества и предикаты знака и символа в различных пропорциях, то более приближаясь к идеалу знака, то – символа, но никогда их не достигая» [5].
Аксиома динамического семиозиса предполагает, что семиозис всегда подвижен, поскольку процессы семиотического дрейфа никогда не прекращаются полностью.
Помимо отмеченного семиотического дрейфа знак/символ, наблюдаются и иные формы, например динамическое изменение элементами семиозиса признаков символа и метафоры/аллегории. Теория семиотического дрейфа позволяет внести существенные корректировки в методологию семиотического исследования религиозного дискурса и позволяет поставить вопрос о структуре семиотического значения элементов религиозного семиозиса. Для решения этого вопроса необходимо вначале определить коммуникативные уровни, применительно к которым семиотически значимые элементы дискурса реализуют свой семантический потенциал. Очевидно, что иерархия данных уровней не является неизменной, она формируется религиозной традицией и соответствующим ей мировоззрением. Применительно к особенностям христианской семиосферы исследователю необходимо учитывать векторы вселенского и местного, теологии и народной веры, «метафизического» и «физического». В зависимости от конкретного контекста семиозиса некоторые из перечисленных векторов обретают особую актуальность, влияя на динамику семиотического дрейфа в большей степени, нежели иные.
Предложенная методика категориального семиотического анализа исходит из двух базовых предпосылок. Согласно первой, значение семиотически значимого элемента религиозного дискурса раскрывается на трех уровнях, которые выделяются в зависимости от типа категоризации значения: категориальном, субкатегориальном и гиперкатегориальном. Согласно второй, структура значения семиотически значимого элемента не является константой: в зависимости от специфики контекста его воспроизведения, особенностей коммуникативной ситуации и иных вариативных условий, наполнение категориальных уровней меняется. Таким образом, семиотический дрейф имеет два направления, условно обозначим их как «горизонтальное» и «вертикальное». Горизонтальный семиотический дрейф, нами выше описанный, осуществляется в рамках одного уровня значений, вертикальный же наблюдается в тех случаях, когда элементы семиотического значения, относящиеся к одному уровню значения (в определенном контексте), с изменением коммуникативных условий обретают качества, свойственные элементам иных структурных уровней. Обычно наблюдается дрейф по направлениям категориальный уровень ↔ гиперкатегориальный уровень, категориальный уровень ↔ субкатегориальный уровень. На этом основании можно проследить закономерности семиотической комбинаторики, проявляющиеся в том, что семиотический дрейф влияет на отношения, существующие между объемами понятий, формирующими значение элемента семиозиса и, благодаря этому, влияет на синтагматику.
Основное для анализа – категориальное значение (значение категориального уровня, содержащее видовые признаки), его можно определить как обобщенное значение, которое не зависит от специфических условий коммуникативных отношений; «видовое понятие образуется при пересечении объемов нескольких родовых понятий и, в свою очередь, включает в себя подвидовые понятия» [6: 80]. Категориальное значение элемента религиозного семиозиса формируется в результате взаимодействия нескольких функциональных субдискурсов. В нашем случае такими субдискурсами могут быть, например, литургика, догматика, каноника, аскетика, агиология и т.п. Так, например, элементы богослужебного обихода обладают литургическим категориальным значением, теологические понятия – догматическим и т.п. Некоторые религиозные понятия семиотизируются в рамках определенных субкультур, так, например, семиотическая демонизация вакцинирования и иных противоэпидемических мероприятий характерна для религиозных сообществ радикального фундаментализма, в субдискурсах которого происходит их категоризация [2].
Однако ограничивать категориальное значение подобной констатацией в исследовательском отношении малопродуктивно; для того, чтобы увеличить информативность исследования, категориальный уровень значения следует соотносить с тем смысловым пространством, в котором происходит формирование базовых значений соответствующей анализируемому элементу семиозиса концептосферы. Далее мы будем исходить из того, что именно на категориальном уровне происходит установление семиотических связей (символических, метафорических), обеспечивающих включение элемента семиозиса в соответствующую семантическую категорию. Так, например, ранее проведенное нами исследование показало, что в дискурсах маргинального православия категориальный уровень семиотики образа «неканонического святого» Григория Нового (Г.Е. Распутина) может быть определен как «святой Григорий», именно на этом уровне семиотического моделирования формируются базовые компоненты распутинской ритуалосферы [3]. На категориальном уровне интерпретации образа Распутина формируется представление о соответствии жизни и смерти Г.Е. Распутина православным критериям святости, при этом создается агиографический образ «старца», обезличенный, шаблонно-хрестоматийный, представляющий собой своего рода «квинтэссенцию святости» вне очевидных связей с реальным человеком. Биографические детали несущественны, они заменяются «общими описаниями», личностные черты затушеваны и заретушированы агиографическим трафаретом. Уникальность личности растворяется в типологизированном (а значит – традиционном) образе святости.
Как уже отмечалось, уровни значения семиотически значимых элементов зависят от специфики коммуникативной ситуации, например, применительно к семиотике иконы, воспринимаемой православным верующим в условиях повседневной коммуникации, категориальное значение будет формироваться в рамках семантического поля «священное изображение», тогда как для убежденного старообрядца категориальное значение будет формироваться в оценочном пространстве «правильная икона / неправильная икона», а для сторонника радикального протестантизма, жестко отвергающего иконопочитание, категориальным значением будет, скорее всего, «идолопоклонство».
Субкатегориальный уровень формируется в результате категоризации более низкого уровня, в результате которой значение элемента семиозиса раскрывается через соотнесение его с категориями, образуемыми благодаря таким процедурам абстрагирования, которые не только позволяют сохранить, но и акцентировать детали, несущественные для категориального значения. Такие категории более низкого уровня можно рассматривать как субкатегории. Количество субкатегорий, влияющих на содержание субкатегориального значения, весьма широко, а их набор зависит от специфических коммуникативных условий, в рамках которых происходит восприятие элемента семиозиса. К таким условиям относится контекст коммуникативной ситуации, субъективные предпочтения участников коммуникации, прагматические установки, эмотивный фон и т.д.
Поскольку выделение субкатегорий зачастую носит субъективный характер и связано со спецификой (в том числе психологической) восприятия мира участниками коммуникативной ситуации (герменевтической ситуации по Гадамеру), субкатегориальный уровень в большой степени подвержен семиотическому дрейфу. Границы между метафорой/аллегорией и символом здесь зачастую носят условный характер и подвержены динамическим изменениям даже в рамках одного развернутого высказывания.
Применительно к выше приведенным примерам, семиотика образа Г.Е. Распутина на субкатегориальном уровне реализует стратегии «детализации святости», соотнесения Г.Е. Распутина с различными агиографическими рангами – пророк, чудотворец, мученик, великомученик и т.д. Распутин как пророк и даже преподобномученик варьирует признаки метафоры / символа (семиотический дрейф) в зависимости от условий коммуникации, что не в последнюю очередь задается особой апологетической стратегией – семиотическая неясность позволяет при необходимости теологически значимое (для адептов) содержание объявить «поэтической метафорой», которая по определению не предназначена для формулирования точного знания. Это позволяет исторически сомнительные и легко опровергаемые утверждения об особой святости Распутина маскировать как поэтические метафоры, гиперболы и т.д.
Применительно к семиотике иконы, на гиперкатегориальном уровне конкретная икона соотносится с субкатегориями, выделяемыми в соответствии с конкретным изображением – сюжет иконы, размер, соответствие иконописному подлиннику, способ изготовления и т.д. Набор субкатегорий достаточно условен: он будет постоянно варьировать в соответствии со спецификой коммуникации, в том числе ее динамикой.
Гиперкатегориальный уровень значения, имплицируемый наличием категориальных свойств семиотически значимого элемента дискурса, наиболее сложен для анализа и выделения. Для элементов религиозного семиозиса гиперкатегориальный уровень по отношению к категориальному выступает в качестве своего рода «надстройки», позволяющей развить семантический потенциал категориального значения через соотнесение элемента дискурса с предметными полями, образуемыми религиозными понятиями, обладающими особым аксиологическим статусом. Речь идет о тех религиозных понятиях и концепциях, которые обладают для религиозного мировосприятия особым сакральным смыслом, и которые в дискурсах развитых теологических религиозных систем имеют сложное символическое выражение.
Так, восприятие иконы на гиперкатегориальном уровне может включать такие концепты, как «святость», «мученичество», «боговоплощение», «мистика чудотворной иконы» и т.д. Зачастую они представлены в едином, нерасторжимом и трудно вербализируемом комплексе смыслов, воспринимаемых в рамках апофатики.
Применительно к образу Г.Е. Распутина таким гиперкатегориальным уровнем будет включение «старца» в царебожнический и квази-новозаветный дискурс (благодаря выстраиванию ассоциативно-семиотических отношений «царь – образ Христа» – «Распутин – “икона” царя»).
Поскольку значение элементов религиозного семиозиса зависит от специфики коммуникативной ситуации, в рамках которой происходит их восприятие и интерпретация, при осуществлении категориального анализа необходимо учитывать герменевтические точки зрения – то, что Б.А. Успенский обозначил как «точку зрения» – систему идейного мировосприятия, используемую для интерпретации и оценки реальности [7]. Так, например, на восприятие религиозного ритуала, а, соответственно и на интерпретацию значения его элементов, влияет то, с какой именно точки зрения ритуал воспринимается. Ранее проведенные нами исследования позволили выделить несколько наиболее типичных точек зрения, с которых происходит восприятие элементов ритуалосферы:
-
1) основные совершители ритуала, которые, собственно, и исполняют главные обрядовые действия;
-
2) факультативные участники, которые участвуют в совершении ритуала в качестве ассистентов, чье участие, в принципе, необязательно;
-
3) тот (те), для кого ритуал совершается непосредственно;
-
4) присутствующие при совершении ритуала верующие (различной степени воцерковленности), от которых ожидается то или иное участие в нем, например, в молитве, совместном исповедании веры и т.д.
-
5) «духовно ищущие», лица, интересующиеся религией, но не имеющие опыта принадлежности к данной традиции;
-
6) случайные присутствующие (туристы, зрители) которые могут быть верующими, атеистами или агностиками, могут симпатизировать данной религиозной традиции, а могут относиться к ней скептически, могут располагать или не располагать базовыми знаниями о совершаемом ритуале, а могут воспринимать его сугубо эстетически;
-
7) те, чье присутствие обусловлено спецификой профессии, не связанной с религиозной деятельностью (гиды, фотографы, журналисты, охранники, проверяющие, уборщики, реставраторы и т.д.).
Перечисленные точки зрения не исчерпывают все возможные аспекты коммуникативных отношений, но только задают общие контуры схемы. Так, например, существует достаточное количество профессиональных подходов (точка зрения музыканта, художника, врача-эпидемиолога, пожарного инспектора, музейного работника и т.п.), эстетических предпочтений, мировоззренческих установок, трудно поддающихся типологизации, но при этом могущих влиять на специфику восприятия элементов ритуалосферы. От них приходится абстрагироваться.
Кроме того, существует еще одна сложность: подобные точки зрения могут совмещаться, комбинироваться, при этом могут образовываться аксиологические иерархии, в рамках которых одна точка зрения является основной, а другие – факультативными, подчиненными. При этом именно основная точка зрения будет влиять на категориальную семиотику путем формирования уровней смыслов, а факультативные могут только обогащать последние привнесением коннотаций. Поэтому для осуществления категориального анализа иногда бывает необходимо не только реконструировать коммуникативную ситуацию, но и определить точки зрения и их иерархии, применительно к которым анализ проводится.
Как следует из сказанного, категориально-семиотический анализ предполагает детальное изучение коммуникативной ситуации, в рамках которой происходит восприятие и интерпретация семиотически значимого элемента дискурса, поэтому он включает в себя наряду с выявлением категориальных уровней значения основные положения теории семиотического дрейфа и концепции герменевтических точек зрения.
Список литературы Категориальная семиотика элементов религиозного дискурса
- Гапонов А.С. Социальная наука в контексте "герменевтического поворота" // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 324. С. 71-74.
- Головушкин Д.А. Православный фундаментализм: возвращение к осмыслению // Философская мысль. 2016. № 1. С. 111-155.
- Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Светлов Р.В. К вопросу о культе "св. Григория Нового" (Г.Е. Распутина) в маргинальном православии // Вестник славянских культур. 2018. Т. 47. С. 27-39.
- Лебедев В.Ю. Модель семиотического дрейфа в описании христианского религиозного ритуала // Полигнозис. 2004. Вып. 2. С. 30-38.
- Прилуцкий А.М. О типологии семиотического дрейфа в пространстве религиозного семиозиса // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 2. С. 51-55.
- Савицкий В.М. Основы общей теории идиоматики. М.: Гнозис, 2006. С.80 208 с.
- Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб: Азбука, 2000. 352с.