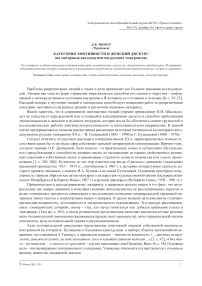Категория эмотивности и женский дискурс (на материале автодокументов русских эмигранток)
Автор: Минец Диана Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Аспекты изучения языковой личности в современный период
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены особенности репрезентации категории эмотивности в женском эмигрантском автодискурсе. Восприятие действительности гендерно маркировано и реализуется посредством совокупности вербализованных эмоций и концептов
Категория эмотивности, гендер, автодокумент, языковая личность, женский дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/14821680
IDR: 14821680
Текст научной статьи Категория эмотивности и женский дискурс (на материале автодокументов русских эмигранток)
Проблема репрезентации эмоций в языке и речи привлекает все большее внимание исследователей. Эмоции как одна из форм отражения мира являются способом его оценки и через нее – информацией о непосредственном состоянии внутреннего Я человека, его сознания и психики [8, с. 24–25]. Высокий интерес к изучению эмоций в лингвистике способствует появлению работ по репрезентации категории эмотивности на разных уровнях и различном языковом материале.
Важно заметить, что в современной лингвистике эмоций (термин принадлежит В.И. Шаховскому) не существует определенной или устоявшейся классификации средств и способов вербализации эмоциональности в женском и мужском дискурсах, которая могла бы обеспечить снятие трудностей в исследовательских работах лингвокультурологического и сопоставительного направления. В данной статье предпринимается попытка рассмотрения реализации категории эмотивности на материале автодокументов русских эмигранток XX в. – И. Одоевцевой (1895 – 1990) и Г. Кузнецовой (1900 – 1976).
Следует отметить, что русская диаспора в эмиграции начала XX в. характеризовалась полным отсутствием каких бы то ни было сфер собственно женской литературной коммуникации. Причин тому, согласно мнению О.Р. Демидовой, было немало – от практических помех и субъективно обусловленного предубеждения к способности женщин писать до вытекающих из первых свойственных женщинам сомнений в собственных силах и канонизации отдельного аспекта творчества или одного произведения [1, с. 205–206]: Кузнецова до сих пор известна как автор «Грасского дневника» (охватывает временной промежуток 1927 – 1934 гг., опубликован в 1967 г.), историко-литературную ценность которого принято связывать с именем И.А. Бунина, а не самой Кузнецовой. Одоевцева приобрела популярность главным образом как автор мемуаров о литературно-художественной жизни послереволюционного Петербурга («На берегах Невы», 1967 г.) и русской диаспоры («На берегах Сены», 1978 – 1981 гг.).
Применительно к рассматриваемому материалу в жанровом аспекте важен и тот факт, что интересующие нас жанры дневника и мемуаров (женские автодокументы) не рассматривались серьезно и редко становились предметом специального исследования (отнесение патриархальной традицией названных типов текстов к второсортным видам и жанрам). В целом женские автодокументы отличают предельная искренность, достоверность и эмоциональность высказывания. Эго-дискурс рассматриваемых «эмигрантских дочерей», иначе – «тех, кто начал печататься или добился признания только в эмиграции» (Там же, с. 205), в своем речеактовом представлении включает высокочастотные речевые акты положительной самооценки (касающиеся прежде всего внешности), акты отрицательной оценки оппонентов, акты положительной оценки единомышленников.
Акты положительной самооценки представлены позитивной оценкой собственной внешности, выстроенной на контрасте: Кузнецова и Одоевцева единодушны в выборе объекта чрезвычайной неприязни: им становится З. Гиппиус, а предметом нападок – именно ее внешность: «…дивлюсь ее щуплости , цыплячьей худобе , ее подслеповатым глазам и рыжим завитым волосам…» [3, с. 42]; «Она чем-то – не знаю чем – о, только не красотой – смутно напоминает мне Панночку Вия» [6, с. 38]. Основная цель – ниспровержение потенциального соперника. Унижение оппонента осуществляется с помощью иронии, инвектив, сниженной лексики.
К показателям гендерного толка следует отнести и отмеченную Е.А. Земской и соавторами в работе о различиях мужской и женской речи преференцию женщин к использованию уменьшительных суффиксов (деминутивов) [2, с. 106]. Исследователи видят в использовании женщинами уменьшительных суффиксов обнажение семантики «уничижения», в том числе и «самоуничижения»; так задается отказ от собственной полноценности: «Было это в … грязной уличке старого города….» [3, с. 39]; « Комнатки одна над другой…» (Там же, с. 99); «…надеваю халатик …» [6, с. 132]; «…прощается … со всем кабачком » (Там же, с. 264).
К тому же у Одоевцевой тенденция к использованию деминутивов усложнена и семантикой последних, и контекстом – прямой акцентировкой женскости автора, ее атрибутов: «…надеваю свою котиковую шубку с горностаевым воротничком » [5, с. 105]. При этом исследователи отмечают преимущественное употребление деминутивов женщинами при общении с детьми. Однако в женских текстах – иная тенденция: семантика «уменьшительности» связывается с образом мужчины, который интерпретируется как ребенок в руках Женщины-матери («инфантилизация» мужчин): Галина Кузнецова подробно фиксирует малейшее изменение эмоционального состояния Бунина: « И.А нездоров , мы в тревоге...» [3, с. 78]; « И.А. разволновался » (Там же, с. 83). Подобная черта характерна для традиционного материнского дискурса «женского письма».
Важно отметить, что если у И. Одоевцевой концептуальное пространство мемуаров определяет когнитивная сфера «Творчество», то у Кузнецовой (наряду с уже названной) доминантными являются еще «Красота» и «Эмоции» (их вербальное наполнение предельно насыщено). Когнитивная сфера «Красота» реализуется в тексте Г.Н. Кузнецовой как сложное и многоуровневое образование, соотносимое, в частности, с красотой окружающего мира – Грассом, где проживали на тот момент Бунины: «Все хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой окружающего как можно полнее...» (Там же, с. 19).
Ядерное наполнение озвученного ментального образования реализовано множеством иных мелких реалий, также включенных в понятие красоты (цветы, всевозможные растения): «нарвать ему букет гелиотропа » (Там же, с. 20); «мелкие листочки оливок и желтого бамбука » (Там же). Описывая окружающее, Г. Кузнецова часто использует характеризующие атрибуты великолепный, прекрасный, очаровательный (концептуальная сфера «Красота» актуализирует когнитивную сферу «Эмоции»): «Ночи здесь великолепные » (Там же); «и хвойное раскидистое дерево … прекрасно » (Там же, с. 23), «все это в целом очаровательно » (Там же). Эмоционально маркированной является цветовая гамма текста: чаще других встречается слово голубой : «небо <...> густого голубого цвета» (Там же, с. 27).
Экспрессия как таковая характерна для канонического жанра женского дневника. Эмоциональность пронизывает всю речевую структуру дневника Кузнецовой и закрепляется в семантике слов в качестве определителей его различных эмоциональных состояний (вербализация эмоций с помощью эмотивных слов и выражений, обладающих эмоциональной значимостью на основе своего семного состава): «Увидели, что прелестную грядку из серых камней, отделявшую обрыв, сломали и строят безобразную бетонную с рыже-красными прутьями изгородь… Какое ослиное понятие о красоте надо иметь, чтобы делать такую замену!» (Там же, с. 189). Эмоциональная семантика в тексте выражается в словах-символах, ассоциативных словах: «Под платанами же тотчас увидели Мережковского, быстро, бочком пробиравшегося с видом похудевшего таракана – усы торчали » (Там же, с. 151).
Мемуары Одоевцевой преимущественно сосредоточены на литературной жизни поэтического Парнаса Серебряного века (1-я часть дилогии) и русской эмиграции (2-я часть дилогии). Творчество – одна из концептуальных доминант мемуаров. Творчество для писательницы-эмигрантки – это способ заявить о себе, утвердить себя как некую значимую единицу. Эмотивное наполнение концептуальной сферы «Творчество» определяет доминанту речевого автопортрета Одоевцевой и подразумевает реальную оценку индивидом самого себя, состоит из осознанного восприятия и ценностей Я (отобранный материал творчески рефлексивен, что обусловило его гендерную релевантность): «Я тогда была чересчур самонадеянной и уверенной в себе» [6, с. 70]; «…три дня бьюсь над концом стихотворения и чувствую себя совершенно бездарной» (Там же, с. 294).
Показательны и метафорические образы-самохарактеристики: «Со мной в эмиграции случилось обратное, чем с гадким утенком в сказке Андерсена. Гадкий утенок там превратился в лебедя, я же, напротив, из “лебедя” превратилась в “гадкого утенка” » (Там же, с. 54); «Чувствую себя мышью , попавшей в мышеловку» (Там же, с. 314). Аналогичная ситуация в «Грасском дневнике» Г. Кузнецовой: «...чувствую себя рядом с ним лягушкой , которая захотела сравняться с волом...» [3, с. 58]. В первом случае – осознанная трансформация устойчивой литературной формулы (гадкий утенок (« - ») → лебедь («+»)), где первый член предполагает естественное изменение образа: тот, «чьи достоинства пока не видны, но раскроются в будущем» [ 7, с. 842 ] . Перевернутая с логической точки зрения пара (лебедь («+») → гадкий утенок (« - »)) отражает творческое самоощущение: Одоевцева именно в России стала прославленным автором, в эмиграции же «из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли», она превратилась в «молоденькую поэтессу» и «молодую романистку» и оставалась в этой роли почти до конца войны. Во втором случае мы видим аллюзивную отсылку к басне И.А. Крылова.
Эмоциональность, пронизывающая всю речевую деятельность человека, закрепляется в семантике слов в качестве определителей его различных эмоциональных состояний – предикатов внутреннего состояния: «Я чувствую, что за эти недели мною ничего не сделано , хотя я провожу за столом каждый день часа четыре» [3, с. 22]; «...я потеряла смелость . Писать какой – либо роман рядом с ним – претенциозно и страшно » (Там же, с. 27); «Обычно я люблю писать осенью» (Там же, с. 39); «...у меня такое чувство, будто это не обо мне; что писал кто-то другой , а я ничего писать не в состоянии » (Там же, с. 48); «Мне кажется, что все, что я даю ему читать, должно казаться слабым, беспомощным , и сама стыжусь этого» (Там же, с. 58); «...я давно не пишу и чувствую с грустью некое томление » (Там же, с. 72); «Я давно ничего не пишу прозой и как-то привяла » (Там же, с. 73).
В целом уровни авторского самоопределения по отношению к творческой сфере у Кузнецовой и Одоевцевой сходны: практические помехи, сомнения в собственных силах и авторитетность рядом находящихся мужских фигур – учителей (Бунин, Гумилев), мужей (Г. Иванов у Одоевцевой) – поставили названных женщин-авторов в положение «ведомых» [ 4 ] , которое в свою очередь было принято ими: в анализируемых автотекстах они стремятся презентовать себя как «ученицы своих учителей», а в случае же с Одоевцевой – и как «жену своего мужа».
Показательным является также упоминание своих ярлыков, сформировавшихся в массовом сознании: «…я уже стала “Одоевцева, моя ученица”» [6, с. 19]; «…пожалев “рыженькую с бантом”» [5, с. 31]; «…хочет разглядеть “ученицу Гумилева” во всех подробностях» (Там же, с. 91); «Я не поняла, с чем она (Ахматова) меня поздравляет – с тем, что я была ученицей Коли, или с тем, что я стала женой Георгия Иванова» (Там же, с. 309).
В своих автодокументах оба автора прибегают к коммуникативному ходу отрицательной оценки своих негативных и вызывающих субъективное неодобрение составляющих личности. В автодокументах к лингвистическим средствам, помогающим реализовать проекцию обозначенной оценки, относятся маркеры отчужденности, а именно:
– устойчивые выражения: «За что ни примусь, все из рук валится » [3, с. 256];
– предикаты (в том числе эмотивные) с отрицательной частицей не или с семантическим миними-затором мало, прилагательные с отрицательной оценкой («…Действия у меня не достаточно» (Там же, с. 22); «Но я вообще делаю преступно мало » (Там же, с. 39); «У меня все время упорное чувство, что я пишу хуже и хуже …» (Там же, с. 91); «…как всегда, перед отходом, не довольна собой. Всегда что-нибудь не так – или шляпа, или волосы, или платье, или выражение моего лица» [5, с. 62].
Актуализация эмотивной валентности в автодокументах часто происходит через «неожиданные» (непривычные) для рамок стандартного кода сочетания, а также через сочетания, в которых один (или более) валентный «партнер» является эмотивным: «Идет дождь. Тепло, сиренево» [3, с. 127]; «Мы жи- вем в страшной, хотя, может быть, и спасительной тупости» [3, с. 188]. Высказывания, ломая инерцию шаблонных выражений, усиливают эстетическое воздействие на читателя. Текст становится более личностным, и поэтому такие конструкции делают дневник более интимным, проникающим во «внутреннюю» жизнь его автора, в его личность.
Итак, гендерная принадлежность отражается на процессе протекания дискурсивной деятельности: существующие в обществе стереотипные представления о нормах мужского и женского речевого поведения накладывают отпечаток на процесс формирования языковой личности и определяют специфику ее ментальной организации, а следовательно, и специфику осуществляемых ею дискурсивных ходов. Тот определенный набор женских речевых стратегий и тактик, который отображает стереотипные представления о нормах женского речевого поведения, в рассматриваемых автодокументах также имеет место. Характерной чертой дискурсивных репрезентаций женской языковой личности является положительная оценочность: высокочастотные речевые акты положительной самооценки (касающиеся прежде всего внешности), акты положительной оценки единомышленников. Акты отрицательной оценки оппонентов единичны.
Восприятие окружающей действительности гендерно маркировано и реализуется посредством совокупности вербализованных восприятий, ощущений, чувств, эмоций, понятий, концептов (когнитивные сферы «Творчество», «Красота» и «Эмоции» , вербальное наполнение которых предельно насыщено), пропущенных через оценочную деятельность человеческого сознания. Речевые автопортреты И. Одоевцевой и Г. Кузнецовой, конструируемые на эмотивном материале, представляют собой национально-, гендерно- и культурномаркированные образы, сложившиеся в сознании индивида и отражающие представления личности о собственном Я.
Список литературы Категория эмотивности и женский дискурс (на материале автодокументов русских эмигранток)
- Демидова О.Р. «Эмигрантские дочери» и литературный канон русского зарубежья//Пол, гендер, культура. М.: РГГУ, 2000. Вып. 2. С. 205-220
- Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Особенности мужской и женской речи//Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М.: Наука, 1993. С. 90-156
- Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М.: Моск. рабочий, 1995
- Макаренко С. Галина Кузнецова: «Грасская Лаура» или жизнь вечно ведомой. URL: http://www.peoples.ru/family/mistress/kuznetsova/index.html
- Одоевцева И. На берегах Невы: Литературные мемуары. М.: Худож. лит., 1988
- Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989
- Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987