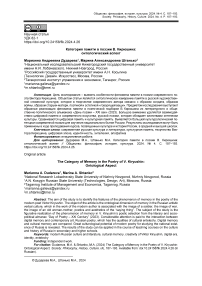Категория памяти в поэзии В. Кирюшина: онтологический аспект
Автор: Дударева М.А., Штанько М.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - выявить особенности феномена памяти в поэзии современного поэта Виктора Кирюшина. Объектом статьи является онтологическое измерение памяти в русской художественной словесной культуре, которое в творчестве современного автора связано с образом солдата, образом войны, образом старухи-матери, поэтикой и эстетикой «говорящей вещи». Предметом исследования выступают образные реализации феномена памяти в поэтической подборке В. Кирюшина из литературного и общественно-политического альманаха «День поэзии - XXI век» (2023). Большое внимание уделяется взаимодействию цифровой памяти и современного искусства, русской поэзии, которая обладает качествами энтелехии культуры. Сравниваются цифровая память и культурная память. Выявляется большой культурологический потенциал современной поэзии для изучения национального бытия России. Результаты исследования могут быть применены в ходе преподавания курсов, посвященных культуре и истории России, в средней и высшей школах.
Современная русская культура и литература, культурная память, творчество виктора кирюшина, цифровая эпоха, идентичность, энтелехия, апофатика
Короткий адрес: https://sciup.org/149145368
IDR: 149145368 | УДК: 82-1 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.26
Текст научной статьи Категория памяти в поэзии В. Кирюшина: онтологический аспект
Переходный характер культуры нашего века и процессы тотальной глобализации и цифровизации ставят перед исследователями разных гуманитарных направлений задачи исследовать новый феномен в культуре, а именно digital memory (цифровую память), которая включена в поле медийного контента, связана с хранением обширной информации в Сети, цифровым конструированием и сторителлингом1. Цифровая память, сетевое пространство, безусловно, важны, поскольку, с одной стороны, в виртуальном пространстве люди могут легко найти «своих» на форумах, в обсуждениях различных проблем, общаться, преодолевая пространство и временные пояса; с другой, как отмечают специалисты, этот онлайн-формат общения оказывает наибольшее влияние на я-идентичность (Мороз, 2019: 408), особенно на молодежь, которая сегодня становится объектом цифрового развития (Штанько, 2020: 272). Как сохранить свое подлинное лицо и не утратить метафизическую сопричастность в условиях тотальной цифровизации, которая коснулась культуры? Вслед за Ю.М. Лотманом, культуру понимаем как «ненаследственную память коллектива, выражающуюся в определенной системе запретов и предписаний» (Лотман, 200: 487).
Филологи, исследующие феномен памяти в русской лингвокультуре, указывают на его разносторонность: «Память как многосторонний феномен требует систематического изучения и может быть рассмотрена как категория, соотнесенная с категориями пространства, времени, сознания, включающая в себя онтологическое, аксиологическое и эпистемологическое базовые измерения» (Шамне, Ребрина, 2013: 105). Обращаясь к отечественной художественной культуре, мы будем интересоваться онтологическим измерением памяти, которая для русского человека, с одной стороны, мучительна, болезненна, а с другой – священна. Вспомним известную чеховскую фразу из поздней повести «Степь»: «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить» (Чехов, 1977: 64). И в этом случае память – сакральное припоминание , в котором соединяется мир живых и мертвых . Но не все события из жизни хочется помнить. И это особенно касается ужасов войны. Показательны в этом отношении колымские произведения Варлама Шаламова, тонко подметившего: «Человек счастлив своим уменьем забывать» (Шаламов, 2013: 85). По мысли французского философа Ж. Делёза, акт припоминания влияет прежде всего на припоминающего: «Повторение ничего не меняет в повторяющемся объекте, но оно что-то меняет в созерцающем его сознании» (Делёз, 1998: 95). По этим причинам погибших в бою, павших за Родину нужно помнить, как помнит и любит их лирический герой нового военного цикла стихов современного поэта Виктора Федоровича Кирюшина. Обратимся к его последней подборке стихов из свежего выпуска литературного альманаха «День поэзии – XXI век» (2023).
Литературный критик Елена Крюкова в статье «Родиться заново», посвященной юбилею поэта, тонко указывает на его художественную работу с категориями времени и памяти: «...ведь это так и надо, чтобы поэт шел дальше и выше; а еще – чтобы он однажды возвратился к воде ключевой детства, к песне материнской рождения. Тогда исход становится истоком. А кто перемешал нам времена?» (Крюкова, 2023: 133). Здесь так же можно говорить о проблеме энтелехии культуры , которая предполагает работу поэта с национальными априори константами духа, ноуменами, обнаруживающими себя во все времена. Под энтелехией мы понимаем, вслед за Г.С. Кнабе, духовную силу культуры, состоящую в припоминании образов предшествующих эпох: одно время и его носители поглощают содержание, смысл, образы и коды предыдущих культурных эпох, вступая с ними в диалоги (Кнабе, 1994: 141). Люди всегда гибнут на войне (это неизбежно), но, по славянским древним представлениям, мир живых соседствует с миром мертвых, поскольку архаический фольклорно-мифологический мир холистичен, и поэт В. Кирюшин нам это художественно показывает:
Укроют воронки цветы полевые,
Подсолнухи ветер устанет качать…
Когда за столом соберутся живые,
Им с мертвыми будет о чем помолчать.
(Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 138)
И здесь мы сталкиваемся с архетипической ситуацией для русской классики – это встречи/бе-седы за столом, которые всегда объединяют разные полюса, разных людей и даже существ. Вспомним и сон Татьяны Лариной, попадающей в хижину со странным столом, за которым собрались и живые, и мертвые представители иномира; и сентиментальную беседу за кабацким столом между братьями Иваном и Алешей Карамазовыми в романе Ф.М. Достоевского.
Филолог и культуролог Г.Д. Гачев прокомментировал эти моменты нашей словесности в культурфилософском ключе, указав на онтологическую суть русской беседы за столом и сравнив ее с телесно-эротическим культом в Индии: «…какое в России пристрастие к таким встречам и поговорить за столом, за выпивкой – о душе (ср. Иван и Алеша Карамазовы в трактире), беседы за ночь заходящие, исполненные высокого полета духа и откровенных исповеданий, – это же обнажение, заголение, заменяющее телесно-эротическую карму индусов, где искренность объятия» (Гачев, 1993: 97).
За столом после войны у В. Кирюшина собираются и живые, и мертвые – это чисто русское ощущение жизни (и смерти). Здесь срабатывает функционал памяти, которая носит миметический характер. Через феномен памяти мы понимаем, какие великие события и потрясения состоялись в нашей частной жизни и жизни общества.
Современный отечественный философ Н.А. Хренов в книге «Воля к сакральному» пишет о связи художественного и мифологического (архетипического) в сознании, что позволяет говорить о мимезисе , как сакральном припоминании и художнике слова, как человеке, приобщенном к «мировым далям», способном проникать в культурное прошлое, даже очень далекое, что и выражено в акте воли к сакральному (Хренов, 2006: 10).
В первом стихотворении поэтической подборки В. Кирюшина мы встречаемся с мотивом прощания/расставания, который актуализирует свойства культурной памяти :
По возрасту давно не призывной,
Но чувствую невольную вину:
Товарищ мой прощается со мной,
Товарищ мой уходит на войну.
Туда, где степь до края сожжена,
Где солнца окровавленный клинок...
А у него молодушка-жена,
А у него кровиночка-сынок.
(Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 137)
«Культурная память, безусловно, взаимосвязана с социальными группами, для которых она является условием личной идентификации, укрепляя в них ощущение общего единства и собственной индивидуальности» (Вербина, 2017: 178). Один человек, уходящий на войну, чтобы защищать Родину, прощается с другим, который вынужден в силу возраста остаться среди гражданского населения, но благодарные женщины, дети и старики будут помнить подвиг солдата вечно – таким образом, происходит единение всех со всеми, и память приобретает метаисторический, онтологический характер.
В следующем стихотворении цикла «Когда ты вернешься...» поэт показывает нам, как память работает уже в сознании того, кто воевал:
Однажды в родительском доме проснешься,
Покажутся странными мирные сны,
Когда ты вернешься,
Когда ты вернешься,
Еще до конца не остыв от войны.
Черемуха вновь расцветет над обрывом,
Развесит над речкой туман пелену…
Солдату непросто привыкнуть к разрывам,
А после непросто принять тишину.
Поздравят с приездом, а ты усмехнёшься –
Дорога оттуда, как память, длинна…
Когда ты вернешься,
Когда ты вернешься,
Сестрой-неразлучницей станет война.
(Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 138)
Дорога с войны сравнивается с человеческой памятью, она такая же трудная и извилистая, и непостижимая, и апофатическая по своей природе, поскольку в сознании человека есть такие танатологические образы, которые он хотел бы забыть, чтобы его личность не разрушалась под их воздействием. Однако апофатика, как непостижимое бытия, его первоэлемент1, есть непреложное основание поэзии, которая «реагирует» на все проявления апофатического в абсолютной форме.
Интересно то, что феномен памяти в поэтике В. Кирюшина сопряжен с женскими образами – весной, войной, старухой-матерью:
Март. Еще далеко до прополки,
Но старушка идет по меже
И в ведро собирает осколки –
Вон их сколько набралось уже!
Здесь недавно бои грохотали,
Всюду черные меты войны.
На зазубренном ржавом металле
Иноземные знаки видны.
Все ты стерпишь, землица сырая,
Как и эта вот старая мать…
Дом разрушен, ютится в сарае
И готовится грядки копать.
(Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 138)
В стихотворении «Под Луганском» передается онтологическое измерение памяти: не только человек призван помнить ужасы войны, но и сама русская Мать Сыра Земля, усеянная осколками разрушенных домов, танков и человеческих судеб. В этом Виктор Кирюшин близок эстетически и аксиологически новокрестьянским поэтам, которые натиску «железа», цивилизации противопоставляли организованный космос, в основе которого демиургическое женское начало, выражающееся и в образе сырой землицы, и в образе матери, и в образе мифологического существа (Дементьев, 1984: 48).
Память проникает в вещи, отражается в них – так соединяются быт и бытие (инобытие), живое и мертвое. В этих вещах, выражаясь философским языком, работают следы истории . Современный немецкий философ Андреас Буллер пишет об этом феномене в мировой культуре с позиции эпистемологии следа: «Следы позволяют нам различать между тем, что “есть” (Dasein), и тем, что “было” (Dagewesenes). Между этими понятиями, однако, имеется одно существенное различие: далеко не все, что “было”, оставило после себя “следы”, однако все, что оставило после себя “следы”, для нас “было” и по этой причине является прошлым» (Буллер, 2021: 17). Русский поэт В. Кирюшин, художественно осмысляя проблему памяти через призму войны, показывает нам в первую очередь онтологическое измерение памяти (следы отсутствующего), которая может победить смерть:
Мрачны войны приметы эти,
Незабываемы, поверьте…
А во дворах играют дети
И жизнь опять сильнее смерти.
(Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 138)
В этом сокрыта тайна двойного , единения жизни и смерти, любви и смерти, их круговая порука , выражаясь поэтическим языком М. Цветаевой (имеется в виду ее эссе на смерть Рильке «Твоя смерть»). Однако об этом писал еще Гераклит, к философии которого восходит наша художественная мысль: «Бессмертные – смертны, смертные – бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают» (Материалисты Древней Греции…, 1955: 46). Так в русском космо-психо-логосе (понятие культуролога Г.Д. Гачева) проявляется философия любви и смерти в их метафизическом преломлении , и так же в творчестве В. Кирюшина, который в один художественный узел два мира завязал, этот и тот , феноменальный и ноуменальный.
Следы отсутствующего, его апофатическое присутствие на этой земле поэт художественно показывает в стихотворении «Боец», которое разрешим себе представить полностью:
Пусть тяжела в бою броня –
Куда деваться?
Всего-то двадцать разменял,
Всего-то двадцать.
В Донбасс был призван от своих
Тверских околиц.
Но он поправил в тот же миг:
– Я – доброволец!
Молчал на проводах отец,
В родне рыдали.
По виду
Позывной «Малец»
Парнишке дали.
Вот крестик, что надела мать На тонкой шее...
Не сладко землю обнимать
В сырой траншее,
Когда разносит все в труху?
Война не шутка...
И он сказал, как на духу:
– Бывает жутко.
Вдруг по лицу скользнула тень.
Шутить пытался...
И я уехал в тот же день,
А он остался.
(Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 138)
Конечно, здесь вспоминается известная песня В. Высоцкого «Он не вернулся из боя», где наблюдается апофатическая связь я - Другой : это не он , Другой, не вернулся из боя, а я . Однако у В. Кирюшина поэтически переигрывается эта ситуация: боец погиб, а я уехал в тот же день. Почему? Куда? На эти вопросы-вопрошания не так просто получить ответ. С одной стороны, нужно учитывать тот факт, что стихи писались поэтом, когда он пребывал в «горячих» точках в качестве выступающего перед бойцами и журналиста: под поэтической подборкой в альманахе написано несколько городов (Москва - Луганск - Кременная) . С другой стороны, мы, читатели, остаемся с апофатическим послевкусием после чтения этого стихотворения. Может быть, лирический герой не просто уехал, а спасся? Например, его укрыл от мины тот самый боец, пожертвовав собой, увидев тень надвигающейся смерти: «Вдруг по лицу скользнула тень // Шутить пытался…» (Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 138).
И здесь мы снова сталкиваемся с чисто русским представлением о смерти, которую народ-художник в нашем фольклоре «приручает» смехом, что особенно проступает в детском игровом свадебном комплексе, в играх в «покойника». Современный фольклорист И.А. Морозов в статье «Переживание смерти в игре как аспект становления личности» показывает тонкую связь между игрой и смертью, смехом и смертью: «...именно игра и сопутствующее ей веселье являются самым эффективным средством нейтрализации смерти» (Морозов, 2008: 94).
С парадигмой «смерть – смех» связан феномен (ноумен) смеха за мертвеца в традиционной культуре. Об этом подробно пишет в своей статье М.Г. Матлин, указывая на необходимость «оживить» мертвеца смехом (Матлин, 2014). Нереализовавшийся смех за мертвеца мы можем наблюдать в повести «Гробовщик» А.С. Пушкина, где герой мог бы посмеяться, поднимая заздравную чарочку за своих клиентов (мертвецов) и выйти из танатологически опасной ситуации. Но, может быть, у бойца стихотворения современного поэта В. Кирюшина еще есть надежда на спасение? Может быть, он не умер? Именно такие «проклятые» вопросы являются неотъемлемой частью настоящего творчества и показывают его апофатический горизонт . Перед нами возникает подлинно русский образ солдата, который не только не боится смерти, но и может шутить перед ней, укрывая своего товарища, собеседника от пуль.
Настоящая поэзия всегда апофатична, в ней есть тайна, вопрос-вопрошание , на который никогда нет прямого ответа. Апофатику здесь понимаем культурологически широко, подразумевая под ней сакральную реальность, ризомно мерцающую в художественном космосе культуры, но не отказываемся при этом от ведущего принципа «не». В русском языке через языковое отрицание также выражаются апофатические устремления русского народа – вспоминаются фольклорные формулы из русских сказок и былин, в которых заложена эстетика поиска «иного царства» («иду туда, не знаю куда», «ищу то, не знаю что»). Отсутствие оказывается красноречивее присутствия. В стихотворении В. Кирюшина «В госпитале» мы сталкиваемся именно с таким феноменом:
Невозможно, в этом соль,
Без него брести по свету...
И сильнее в сердце боль,
Чем в руке,
Которой нету.
(Виктору Кирюшину – 70 лет…, 2023: 139)
Перед нами возникает образ солдата, который лежит в госпитале после сражения, спасенный и одинокий одновременно, сохранивший жизнь и раздираемый болью от потери друга: здесь срабатывает бинарная оппозиция «жизнь – смерть», но с обратным коррелятом. Рука, которая утрачена, болит меньше, чем бьющееся сердце, пропитанное ядом от утраты боевого товарища. Поэт всегда работает с бинарными оппозициями и архетипами культуры, пространством и временем, категорией памяти, но иногда вступает в творческий диалог с традицией, перерабатывая ее и дополняя – по этим причинам могут происходить и изменения внутри парадигмы «жизнь – смерть».
Роль поэта в современном цифровом обществе заключается, прежде всего, в ретенции памяти , то есть художественном «удерживании» прошлого, близкого и далекого, которое напоминает нам о возможности оставаться со-причастными людям, населявшим землю до нас. В современных гуманитарных исследованиях, посвященных онтологическому измерению памяти, мы наблюдаем желание соединить прошлое и будущее, что, вероятно, обусловлено общей компрессией цифровой эпохи: «В этом настоящем и разворачивается время, включающее два измерения прошлого и будущего, а именно непосредственное прошлое “ретенции” и непосредственное будущее “протен-ции”» (Керимов, 2014: 61). Такое метафизическое настоящее, по мысли Т.Х. Керимова, невозможно физически, но оно возможно художественно, поскольку поэзия соединяет феноменальное и ноуменальное, прошлое и будущее, образуя энтелехию культуры .
Поэтическая подборка Виктора Кирюшина обладает большим культурологическим потенциалом для изучения феномена памяти, онтологии и эпистемологии «следов истории». Создавая образ солдата, поэт помогает сегодня художественно освоить процессы «общественной реконструкции», поскольку воспоминания не являются данностью, а относятся к современности, определенному социальному контексту, народу, носителям культуры. Проблема культурной памяти – а именно в ее поле вписаны тема войны, образ солдата, образ матери – нуждается во всестороннем гуманитарном осмыслении, поскольку она связана с национальной идентичностью и ее достижением в условиях тотальной глобализации и цифровизации. Именно культурная память сохраняет то онтологическое измерение, которое необходимо для осуществления подлинной энтелехии, то есть соединения мира прошлого (предков и первопредков) с миром настоящего.
Список литературы Категория памяти в поэзии В. Кирюшина: онтологический аспект
- Буллер А. Следы и слои времени (со статьями Райнхарта Козеллека). М.; СПб., 2021. 208 с.
- Вербина О.В. Феномен памяти: опыт прошлого или мифологизированный нарратив (к постановке проблемы) // Наука. Искусство. Культура. 2017. № 1 (13). С. 177–181.
- Виктору Кирюшину – 70 лет // День поэзии – XXI век. 2022–2023 год. Альманах: стихи, статьи / ред. А. Шацков. СПб., 2023. С. 137–139.
- Гачев Г.Д. Образы Индии (Опыт экзистенциальной культурологии). М., 1993. 390 с.
- Делёз Ж. Различие и повторение / пер. с фр. Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской. СПб., 1998. 384 с.
- Дементьев В.В. Исповедь земли: Слово о российской поэзии. М., 1984. 368 с.
- Керимов Т.Х. Онтологическая память: бытие прошлого // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Т. 156, № 1. С. 58–69.
- Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1994. 528 с.
- Крюкова Е.Н. Родиться заново // День поэзии – XXI век. 2022–2023 год. Альманах: стихи, статьи / ред. А. Шацков. СПб., 2023. С. 131–137.
- Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры // Семиосфера. СПб., 2000. С. 485–503.
- Материалисты Древней Греции: cобрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура / под. общ. ред. проф. М.А. Дынника. М., 1955. 238 с.
- Матлин М.Г. Свадебная игра в «покойника» в празднично-обрядовом пространстве русского села // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 1 (29). С. 121–133.
- Мороз О.В. Компьютинг на страже памяти? Рец. на: Garde-Hansen, J., Hoskins, A., Reading, A. (eds.). Save As… Digital Memories. Palgrave Macmillan, 2009 // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2, № 1–2. С. 403–419.
- Морозов И.А. Переживание смерти в игре как аспект становления личности // Категории жизни и смерти в славянской культуре: сб. ст. М., 2008. С. 93–110.
- Хренов Н.А. Воля к сакральному. СПб., 2006. 571 с.
- Чехов А.П. Степь // Полное собрание сочинений: в 30 т. М., 1977. Т. 7. С. 13–104.
- Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 6 т. + т. 7 (доп.). Т. 1: Рассказы 30-х годов; Колымские рассказы; Левый берег; Артист лопаты. М., 2013. 672 с.
- Шамне Н.Л., Ребрина Л.Н. Лингвистическая проекция категории памяти // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2013. № 3 (19). С. 104–112.
- Штанько М.А. Молодежь как субъект и объект цифрового развития // Социальные институты в цифровой среде: сб. трудов Второй Международной научно-практической конференции «Social Science (Общественные науки)» / под ред. Т.В. Игнатовой, Д.А. Корсунова, Н.В. Брюхановой. Ростов-на-Дону, 2020. С. 261–266.