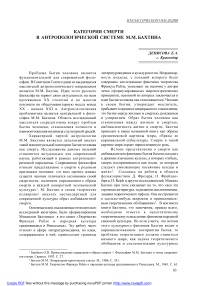Категория смерти в антропологической системе М. М. Бахтина
Автор: Денисова Е.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Из классического наследия
Статья в выпуске: 2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932558
IDR: 14932558
Текст статьи Категория смерти в антропологической системе М. М. Бахтина
Проблема бытия человека является фундаментальной для современной философии. В Советском Союзе одним из выдающихся мыслителей антропологического направления является М.М. Бахтин. Идеи этого русского философа не теряют свою актуальность на всем протяжении ХХ столетия и во многом повлияли на общегуманитарную мысль конца ХХ - начала ХХI в. Антропологическая проблематика является центральной в философии М.М. Бахтина. Область исследований мыслителя сосредоточена вокруг проблем бытия человека, становления личности и взаимоотношения индивида с культурной средой.
Характерной чертой антропологии М.М. Бахтина является детальный анализ такой концептуальной категории бытия человека как смерть. Исследование данных явлений становится актуальным для современной науки, работающей в рамках антропоцентрической парадигмы. Современная философия относит представление о смерти к родовым признакам человека: «от всех прочих живых существ человек отличается осознанием своей смертности, наличием определенного образа смерти в каждой конкретной человеческой культуре» 1. М. Бахтин в своем творчестве подвергает анализу нестандартный для современной культуры образ амбивалентной смерти.
Основные идеи, высказанные относительно исследуемой категории, были сформулированы Михаилом Бахтиным в его книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Эту работу часто относят к сфере литературоведения, но идеи, содержащиеся в ней, превосходят границы литературоведения и культурологии. Неординарность подхода, с позиций которого было совершено исследование феномена творчества Франсуа Рабле, указывает на наличие у автора четко сформулированных мировоззренческих принципов, основной из которых заключается в идее бытия человека как становящегося. Человек в своем бытии, утверждает мыслитель, пребывает в процессе непрерывного становления, это бытие между жизнью и смертью, рождением и умиранием. Образ бытия человека как становления между жизнью и смертью, амбивалентность жизни и смерти, Бахтин приводит в выше названной книге как образы средневековой картины мира, образы ее карнавальной субкультуры. Смерть в такой картине мира играет первостепенную роль.
Истоки представления о смерти как амбивалентном феномене бытия Бахтин находит в древних языческих культах, в которых «гибель, смерть воспринимается как посев, за которым следуют умножающие посеянные всходы и жатв»2. Ссылаясь на работы в области фольклористики Д. Фрезера, О. Фрейден-берга, H. Reich и других исследователей, Михаил Бахтин при этом указывает на то, что «вся эта огромная литература, за редкими исключениями, лишена теоретического пафоса. Она не стремится к сколько-нибудь широким и принципиальным теоретическим обобщениям»3. В контексте книги Бахтина, это замечание, прежде всего, необходимо отнести к недостаточному теоретическому осмыслению феномена народной смеховой культуры. Но если учесть, что истоки этого культурного феномена Бахтин видит в карнавализованном восприятии бытия, то проблема теоретизации должна ставиться намного шире, как задача теоретического обобщения и систематизации культурных феноменов, соответствующих карнавальному мировосприятию. Прежде всего, теоретическому осмыслению образов таких концептуальных для бытия человека явлений как жизнь и смерть.
Сам Бахтин также не создает четкой теоретической системы онтологии человеческого бытия, его работа относительно данного вопроса носит, скорее, проблемный характер, как, впрочем, и вся его философия, на что указывает С.Г. Бочаров: «проблемность он явно предпочитал концепции. Различие же понимал в соответствии с внутренней формой греческого «проблема»: выступание вперед, торчание наружу»1. Яркой иллюстрацией подобного наблюдения можно считать и работу Бахтина о карнавальной культуре. В этой книге философ лишь указывает на факт амбивалентного образа смерти в некоторых мировоззренческих системах, подробно останавливаясь на описании этого образа в культуре Средневековой Европы и, конкретно, в творчестве Франсуа Рабле.
Михаил Бахтин не создает концепцию бытия как становящегося, скорее он указывает на существование такого мировоззрения как одной из систем человеческого бытия, не претендуя на возможность реализации такой картины мира в современной европейской культуре. В то же время, налицо сочувствие автора описываемой картины мира, критика статичных систем бытия. Бахтин явно проблематизирует сферу мышления человека, связанную с восприятием и описанием такого концептуального события как смерть. Предлагая читателю образ амбивалентной смерти, философ, тем самым, наталкивает на сравнение данного образа с восприятием смерти в современной культуре. И если наличие образа смерти есть один из родовых признаков человека, то анализ этого образа является необходимым этапом на пути к его познанию.
Основное, на чем акцентирует внимание М. Бахтин, описывая амбивалентный образ смерти, это - отсутствие страха перед смертью в карнавальной культуре Средневековья. Автор связывает это с существующим в сознании народа представлением об обновляющем характере смерти, появившемся еще в архаические времена: «в системе гротескной образности смерть и обновление неотделимы друг от друга в целом жизни, и это целое менее всего способно вызвать страх»2 , утверждает Михаил Бахтин.
В подтверждение данному высказыванию можно привести массу примеров с описаниями обрядов умерщвления и погребения в архаических племенах. Отношение к смерти, как к необходимому явлению в жизни рода возникает из системы мира, в которой для поддержания бытия необходимо постоянное обновление и высвобождение жизненной энергии: «в эпоху классических майя существовало представление о том, что человеческая кровь и сила человеческой жизни необходима космосу для постоянного обновления»3. Подобные представления о необходимости смерти существовали в мифологии многих архаических племен. Принесенная в жертву жизнь гарантирует сохранение человеческого мира, возможности существования рода на определенный срок. Подобный акт обновления бытия не только не пугает человека, живущего в данной системе мировоззрения, но несет в себе положительное указание на сохранение мира, которому отдана часть энергии, взятая у него человечеством.
Страх смерти первобытного человека отличается от того страха, который испытывает к смерти человек современный. Первобытный человек находился в тяжелейших жизненных условиях, представляющих постоянную угрозу для его бытия, в связи с чем, первобытные архаические люди с необходимостью должны были испытывать страх смерти. Но этот страх скорее можно назвать «онтологическим» страхом, страхом не перед индивидуальной смертью, а страхом перед непредсказуемостью и неизбежностью феномена смерти, с которым сталкивается род в факте смерти одного из членов общины.
Это отличает страх смерти архаического человека от страха перед смертью, присутствующего в современной культуре, который имеет субъективную социальную природу: «смерть, насколько она «есть», по существу всегда моя»4, пишет М. Хайдеггер, и именно в качестве «моей» смерть приобретает в современной, личностно-ориентированной культуре свой статус и значение. Страх смерти, в такой ситуации, это всегда субъективный страх перед утратой собственного присутствия, страх утраты собственного бытия, в отличие от архаического страха небытия как такового.
Уместно отличать от двух этих образов в восприятии смерти отношение к смерти в Средневековой картине мира, где страх перед смертью - прежде всего - страх Божий. Карнавал, описываемый М. Бахтиным, является только одной стороной жизни средневекового человека, другая ее часть, более значительная, (хотя бы по временной протяженности) - серьезная. Являясь одним из важнейших элементов Средневековой культуры, карнавал, в то же время, представляет собой субкультурное образование. Жизнь по законам Карнавала протекает в определенное, строго регламентированное время. С.С. Хоружий отмечает «онтологическую вторичность карнавала и карнавального мира»1, на что неоднократно также указывает и Бахтин: Ф «карнавал - это вторая жизнь народа»2, это - «временный выход за пределы обычного строя жизни»3. Проблемой в таком случае выступает смысл, возможность возникновения карнавальной культуры, с ее специфическим, амбивалентным восприятием смерти.
Объяснение появления карнавала как реакции протеста на официальную культуру Средневековья недостаточно. Связь Карнавальных образов жизни и смерти с аграрными праздниками прослеживается достаточно четко, скорее всего, в данном случае в карнавальном сознании средневековья реализуется архетип символического обмена между жизнью и смертью, проявляющейся в сознании человечества вплоть до ХХ в. К. Леви-Стросс в книге «Мифологики» описывает представление о смерти человека архаической культуры на основании первобытной мифологии. Согласно результатам, полученным исследователем, архаическое сознание связывает феномен смертности человека с зарождением и развитием культуры, а конкретно, с приручением огня и окультуриванием диких растений. «Центральное место в философии индейцев принадлежит теме приготовления пищи, которая свидетельствует о переходе от природы к культуре»4, в то же время, «заниматься приготовлением пищи и означает, -утверждает Леви-Стросс - «слышать призыв гнилого леса»5, что, согласно мифологии, предполагает быть обреченным на ограниченную жизнь6.
Логично было бы предположить, что обретение бессмертия связывает первобытное сознание с возвращением в лоно природы. Идея обновляющейся жизни связывается с отрицанием культуры, прежде всего, отрицанием моральных норм как охранительного каркаса культуры. Происходит инверсия культурных ценностей: «карнавал торжествовал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов»7. Такое отрицание культурных ценностей символически означало отрицание культуры как таковой, как причины смертности и несчастий человечества. Уничтожение культуры ради возвращения человека к его природным истокам.
С учетом того, как медленно в европейском Средневековье происходит смена контекста, на сознание средневекового человека вполне могли влиять архаические мифологемы. Но, не смотря на это, представляется ошибочным объяснять феномен карнавального образа смерти вне христианского контекста.
Карнавализованное отношение к смерти заложено в основе христианской культуры. Сама мифологема о воскрешении мертвых и вечной жизни предполагает позитивное отношение к смерти как условию перехода в иной, божественный, духовный мир. В то же время, понимание смерти как итога земного жизненного пути, и идея принятия земного бытия, смирения перед ним как необходимого условия обретения Царства Божия, предполагали серьезное и почтительное отношение к смерти как значительному событию в жизни христианина.
Карнавал, в такой ситуации, выступает в качестве подтверждения принятия человеком христианской мифологемы: радостное принятие данного человеку мира во всей полноте его проявлений, тем более таких концептуальных как жизнь, рождение и смерть.
Таким образом, следует отметить, что истоки амбивалентного образа смерти, ярко выразившиеся в карнавальной культуре Средних веков, связаны не только с архаическим культом жертвоприношения. На амбивалентное отношение к жизни и смерти повлияли так же присущие структуре архаического мышления бинарные оппозиции жизнь - смерть, которые были опосредованы на эмпирическом уровне с помощью аппозиции категорий культура -природа. Важное влияние на карнавальное отношение к смерти оказала также сама христианская мифология, в которой смерть выступает условием и орудием обретения человечеством вечной жизни.
Список литературы Категория смерти в антропологической системе М. М. Бахтина
- Хоружий С.С. Бахтин. Джойс. Люцифер.//Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. СПб., 1995. С. 18.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 13.
- Там же. С. 12.
- Клод Леви-Строс. Мифологики. В 4-х тт., Т. 1. М.; СПб., 1999. С. 159.
- Там же. С. 147.
- Там же. С. 70.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 15.
- Бочаров С.Г. Событие бытия. О Михаиле Михайловиче Бахтине//М.М. Бахтин: pro et contra. СПб., 2002. С. 285.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 57.
- История религии в 2-х тт., Т. 1. М., 2002. С. 75.
- Хайдеггер М. Бытие и время; Пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков. 2003. С. 274.
- Брейкин О.В. Происхождение сакрального образа смерти//Философия М.М. Бахтина и этика современного мира. Саранск. 1992. С. 27.
- Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 241.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 63.