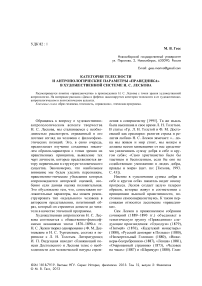Категория телесности и антропологические параметры "праведника" в художественной системе Н. С. Лескова
Автор: Гесс Марина Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Краткие сообщения
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается понятие «праведничества» в произведениях Н. С. Лескова с точки зрения художественной антропологии. На материале рассказа «Дама и фефёла» анализируется категория телесности в ее художественноантропологическом и поэтологическом аспектах.
Образ человека, телесность, "праведник", этическая программа
Короткий адрес: https://sciup.org/147218740
IDR: 147218740 | УДК: 82
Текст краткого сообщения Категория телесности и антропологические параметры "праведника" в художественной системе Н. С. Лескова
Обращаясь к вопросу о художественноантропологическом аспекте творчества Н. С. Лескова, мы сталкиваемся с необходимостью рассмотреть отраженный в его поэтике взгляд на человека с философско-этических позиций. Это, в свою очередь, предполагает изучение созданных писателем образов-характеров с точки зрения их нравственных принципов, выявление тех черт личности, которые представляются автору первичными в структуре человеческого существа. Закономерно, что наибольшее внимание мы будем уделять персонажам, нравственно-этические убеждения которых сопровождаются авторской оценкой, особенно если данная оценка положительная. Это обусловлено тем, что, сопоставляя положительные характеры, мы можем реконструировать тип «идеального» человека в авторском представлении, позитивный образ, который он стремится донести до читателя в качестве этической программы.
Художественная антропология Н. С. Лескова соотносится с общественно-философскими исканиями эпохи 1870‒1890-х гг. Н. С . Лесков творил одновременно с Ф . М. Достоевским и И. С. Тургеневым, состоял в переписке с Л. Н. Толстым. Литературовед И. П. Видуэцкая находит сближающий поиски Достоевского и Лескова тезис о необходимости для человеческой натуры стрем- ления к совершенству [1995]. Та же мысль была высказана в свое время Л. Н. Толстым. В статье «Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи: религия страха и религия любви» Н. С. Лесков замечает: «…по-ка мы живем и мир стоит, мы можем и должны всеми зависящими от нас средствами увеличивать сумму добра в себе и кругом себя»; «Само христианство было бы тщетным и бесполезным, если бы оно не содействовало умножению в людях добра, правды и мира» (цит. по: [Тюхова, 1993. С. 43]).
Именно в «увеличении суммы добра в себе и кругом себя» писатель видит основу прогресса. Лесков создает целую галерею образов, которые живут в соответствии с принципами высокой нравственности, постоянно самосовершенствуясь. К таким персонажам относятся лесковские «праведники».
Сам Лесков в прижизненном собрании сочинений (1889–1890 гг.) объединяет в тематическую группу «Праведники» следующие произведения: «Однодум» (1879), «Пигмей» (1876), «Кадетский монастырь» (1880), «Русский демократ в Польше» (1880), «Несмертельный Голован» (1880), «Инженеры-бессребреники» (1887), «Левша» (1881), «Очарованный странник» (1873), «Человек на часах» (1887) и «Шерамур» (1880). Глав-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © М. В. Гесс, 2013
ные действующие лица этих произведений представляют собой личности необычные, «неимоверные», по словам самого автора. Их поступки удивительны, нетипичны, интересны. «Праведники» Лескова – люди довольно разные, и изображает их автор по-разному. Некоторые характеры показаны им в развитии, на своем пути к праведничеству («Очарованный странник», «Инженеры-бес-сребренники»), другие даны уже сформировавшимися («Несмертельный Голован»), а инстинкт добра у некоторых «праведников» описывается в ситуации мгновенного выбора («Человек на часах»).
При таком разнообразии характеров естественно возникает вопрос о философии человека, объединяющей лесковских «праведников». Известно, что Лесков создал также образы «праведников», рассказы о которых не вошли в прижизненный сборник.
Тема «праведника» получила широкое освещение в современном литературоведении (см.: [Конышев, 1988; Горелов, 1988; Видуэцкая, 1988; Аннинский, 1988] и др.). Характерологическими чертами лесковского «праведника» общепризнанно являются: «нравственно-самобытный цельный характер», требование долга, «слитое» с влечением к добру (Е. М. Конышев); отсутствие в даже самых тяжелых обстоятельствах «нравственной муки раздвоения помысла и слова, духовного обязательства и дела» (А. А. Горелов); «готовность прийти на помощь к другому человеку», «евангельская проповедь любви и добрых дел» (И. П. Ви-дуэцкая); некоторая отстраненность от действительности, безмерность, несоразмерность, несообразность (Л. Аннинский).
Таким образом, основной чертой лесковского «праведника», на наш взгляд, является присутствие в структуре его личности особой духовной энергии, способной преобразовывать мир. В образах «праведников» ярче всего воплотилась философско-этическая концепция Н. С. Лескова, утверждающая активно-творческий потенциал человека. Вместе с тем понятие «праведничества» у Лескова не исключает вовлеченности человека в плотный материально-предметный контекст, и в этом случае актуализируется значение телесности как одной из антропологических категорий, посредством которой выражается связь человека с его «средой обитания».
В рассказе «Дама и фефёла» перед нами предстают два характера: Зинаида и Праша. Последнюю вполне можно отнести к лесковским «праведникам»: она изменяет всю свою жизнь ради возлюбленного, для того, чтобы заботиться о нем; вступая в брак с Апрелем Иванычем, честно признается, что не разлюбила литератора; живя в Финляндии, не оставляет без попечения детей-сирот; прощает и жену литератора, и Зинаиду, доставившую ей немало хлопот. Во всех этих поступках можно видеть прямодушие, искренность и целостность характера, не позволяющие ни при каких обстоятельствах отказываться от усвоенных нравственных ценностей, стремление всегда помочь ближнему: «она была хороша для всех, ибо каждому могла подать сокровища своего благого сердца» [Лесков, 1989. Т. 12. С. 93] 1.
В «Даме и фефёле» героини жестко противопоставлены друг другу: «Зинаида Павловна была мещанка из подгородней слободы того самого города, откуда была родом и Праша, которой Зинаида Павловна приходилась теткой и была старше ее лет на двенадцать, так что в это время, когда Праше было лет двадцать, Зинаиде Павловне уже перевалило за тридцать. “Природы” они были различной: Праша была кругленькая, бочоночком и посмешливая, а Зинаида Павловна – медлительная, величественная и авантажная <…> По уму и душевным своим свойствам обе женщины тоже совсем были не похожи одна на другую: Праша еще не созрела умом, но все замечала и во все вдумывалась, тогда как Зинаида Павловна ни о чем не думала <…> При этом Праша была скромница, а Зинаида Павловна – болтушка» (С. 73). Телесно-психическая антитеза характеров и судеб героинь задает сюжетную динамику рассказа.
Позже мы узнаем, что начало нравственного падения Зинаиды связано не с ее личной склонностью к распутству, а с тем, что ее «пятнадцати лет, в ужасный голодный год, тяжкая домашняя нужда, а может быть, и материнская подлость, продали купцу-мукомолу. Купец, заплатив за девчонку деньги, взял с нее что хотел, а “остальную часть” бросил» (С. 73). После этого девушка вынуждена была выйти замуж за нелюбимо- го мужа, который ее бил, а после его смерти, оставшись без денег, переходила от одного любовника к другому, рожая от каждого по ребенку – помимо трех «законных» (С. 76). На момент знакомства рассказчика с Зинаидой, она «устроила» всех своих детей (т. е. сдала их кому-то на воспитание) и пришла жить к Праше. В начале повествования отношение читателя к Зинаиде Павловне сочувственное: жизнь в распутстве будто бы предопределена внешними обстоятельствами, что на первый взгляд «снимает» вину с героини. Мы вправе ожидать, что ее дальнейшим путем станет «духовное делание», ибо в христианской традиции не покаяться в грехе ‒ значит совершить намного больший грех, ведь покаяние и исправление способны оправдать грешника.
Однако дальнейший жизненный путь героини сводится к бесконечной смене любовников и появлению на свет многочисленных детей, которых она все так же бросает на произвол судьбы. Поселившись у Праши и имея возможность зарабатывать на жизнь честным трудом, Зинаида совсем не думает о будущем своего потомства. В конце концов «дети удивили Зинаиду Павловну тем, что они начали подрастать один вслед за другим, чего мать их совсем не ожидала и совершенно растерялась от этой неожиданности. Она делала все, что могла: плакала и молилась на коленях, но дети все-таки оставались “без предела” <…> Чтоб избавиться <…> от детей, Зинаида Павловна готова была выпить самую злую отраву и даже раз выпила пузырек нашатырного спирта» (С. 80). Нравственное безразличие Зинаиды влечет за собой подчинение ее личности силе плотского начала.
Плотская энергия – разрушительная, темная и бессознательная. Деструктивная сила плотского начала направлена не только на нравственно-этическую сущность ее носителя, но и вовне, в окружающий мир. Отказ от собственных детей имеет философский и символический смысл. Дитя – «плоть от плоти» – продолжение собственного тела. Наличие детей, потомства естественно и необходимо в биологическом смысле, наличие наследников (тех, кому человек передает свой этический, мировоззренческий, социальный, интеллектуальный опыт) – естественно и необходимо в психологическом и социальном планах. Отсутствие у человека детей в большинстве культур рассматри- вается как ущербность, несовершенство [Чеснов, 2007. С. 116]. Христианско-народное мировоззрение полагает отсутствие детей Божьим наказанием, а их наличие – Божьим даром.
Противопоставление характеров «двух фефёл» ‒ Зинаиды и Праши – реализуется и в различии их отношений к детям. Праша – преданная мать. Именно ради того, чтобы можно было воспитывать сына, Праша решается на открытие прачечной и много работает. Она заботится и о будущем первенца и о будущем двух следующих детей от мужа Апреля Иваныча. Постарев и продав свою прачечную, женщина переезжает в Финляндию, где «обмывала и обшивала выкармливаемых крестьянами подкидышей воспитательного дома» (С. 90). Отношение героини к детям полярно противоположно тому, что демонстрирует Зинаида.
«Телесное» в структуре характера «праведницы» Праши, будучи началом естественным, органическим, созидающим, дополняет духовное. Духовное свидетельствует о творческом мировосприятии «человека Лескова». Наличие созидательной энергии – обязательное условие «праведничества». Если к созидательной энергии духа прибавляется созидательная энергия тела, появляется тип гармоничной личности. Что касается плотского в человеке, то его наличие – показатель отсутствия творящей силы духа человека. Плотское греховно и разрушает не только окружающий человека мир, но и его самого, в первую очередь его дух.
Таким образом, Праша и Зинаида являют собой два полюса категории телесности: Зинаида характеризуется порочным и деструктивным «плотским» началом, Праша – светлым и созидательным «телесным». Повторим, что под «телесным» у Лескова понимается позитивная созидательная энергия, характеризующая «положительных» персонажей, оказывающаяся в гармонии с духом и помогающая утверждению цельной личности. «Плотское», в свою очередь, – это деструктивная энергия. Она тоже направлена в мир, но несет зло и разрушение. Кроме того, она является деструктивной и для духа «плотского» человека. «Плотское» связано с понятием греха, борение с которым требует от человека немалых нравственных сил. Понятие «плотское» мы применяем при описании отрицательно оцениваемых проявлений телесности, а именно ‒ неуемных желаний
(чревоугодие, пьянство, любострастие). Гармония телесности и духовности в человеке является условием самореализации человека. Направленность творческой энергии в мир – признак «идеального» человека. Это и утверждает в своих произведениях Н. С. Лесков.
Список литературы Категория телесности и антропологические параметры "праведника" в художественной системе Н. С. Лескова
- Аннинский Л. А. Три еретика. М.: Книга, 1988. 350 с.
- Видуэцкая И. П. Прошлое и настоящее в художественном мире Лескова // Лесков и русская литература. М.: Наука, 1988. С. 76-94.
- Видуэцкая И. П. Об атмосфере художественного мира Лескова // Русская словесность. 1995. № 6. С. 25-28.
- Горелов А. А. Н. С. Лесков и народная культура. Л.: Наука, 1988. 294 с.
- Конышев Е. М. Тема «праведника» в творчестве А. И. Левитова и Н. С. Лескова // Творчество Н. С. Лескова: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Г. Б. Курляндской. Курск, 1988. С. 125-128.
- Тюхова Е. В. О психологизме Н. С. Лескова. Саратов, 1993. 106 с.
- Чеснов Я. В. Телесность человека: философско-антропологическое понимание. М., 2007. 213 с.