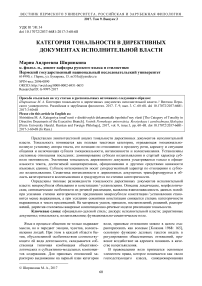Категория тональности в директивных документах исполнительной власти
Автор: Ширинкина Мария Андреевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
Представлен лингвотекстовой анализ тональности директивных документов исполнительной власти. Тональность понимается как полевая текстовая категория, отражающая эмоционально-волевую установку автора текста, его позицию по отношению к предмету речи, адресату и ситуации общения и включающая субполя эмоциональности, интенсивности и волеизъявления. Установлены системные отношения последних: доминирование субполя волеизъявления и стертый характер субполя эмотивности. Эмотивная тональность директивного документа усматривается только в официальности текста, достигаемой канцеляризмами, официонимами и другими средствами книжности языковых единиц. Субполе интенсивности носит суперсегментный характер по отношению к субполю волеизъявления. Семантика интенсивности в директивных документах трансформируется в область категоричности волеизъявления и градуируется по степени категоричности. Определены типовые разновидности тональности директивных документов исполнительной власти: микросубполя обязывания и констатации / установления. Описаны лексические, морфологические, синтаксические особенности их речевой реализации, выявлена взаимозависимость данных полей: при усилении степени категоричности предписания микросубполе констатации / установления становится менее выраженным, а при усилении семантики констатации снижается степень категоричности выраженных в тексте предписаний. На материале указов, приказов, постановлений, решений, распоряжений, директив отслежены жанровые композиционно-речевые модели реализации тональности.
Официально-деловой стиль, дискурс исполнительной власти, директивные документы, тональность, волеизъявление, функционально-семантическое поле
Короткий адрес: https://sciup.org/14729525
IDR: 14729525 | УДК: 81''38: | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-3-60-68
Текст научной статьи Категория тональности в директивных документах исполнительной власти
Язык в процессе общения не только выражает мысли, но и передает эмоции, чувства, волеизъявления людей. При этом в каждой области бытия, обусловленной особенностями соответствующего ей вида деятельности, складывается собственная типичная комбинация объективнологических и субъективно-модальных компонентов содержания. Для правовых отношений характерно выдвижение на первый план категории воли, правовые отношения можно в целом охарактеризовать как волевые [Кожина 1968: 165], основную функцию деловых текстов видеть в регулировании общественных отношений, правовое воздействие на адресата понимать в качестве волеизъявления.
В правоведении воля признается основным элементом права, которое понимается как «воля господствующего класса, санкционированная
государством и возведенная в закон» [Серцова, Пичугин 1960: 78]. Выражение воли в праве основано на статусно-ролевых отношениях между участниками общения и связанных с этим правомочиях каждого.
Сферу правовых отношений обслуживает официально-деловой функциональный стиль (ОДС), который, как и любой другой, представлен целостной системой жанров. Общий предпи-сующе-долженствующий тон речи, присущий ОДС в целом, особенным образом проявляется в каждом конкретном жанре. Учитывая сказанное, чрезвычайно важным представляется описать варианты репрезентации императивной тональности в жанровых типах ОДС.
Жанровый массив деловых текстов может быть классифицирован на разных основаниях: 1) по любому стилеобразующему признаку (например, по доминирующей функции текста внутри ОДС выделяются предписывающие, ходатайствующие и осведомляющие жанры [Дус-каева, Протопопова 2012], по типу институционального субъекта – жанры законодательной власти, исполнительной власти и местного самоуправления [Киреева 2016]) или 2) по группе признаков (Матвеева 1994, Анисимова 2000, Lee 2001). Материалом нашего исследования являются жанры одной из дискурсивных разновидностей ОДС – дискурса исполнительной власти (обоснование понятия см.: [Ширинкина 2017]). Наш подход заключается в том, что за основу классификации берется комплекс вторичных – жанровых, ситуативных – внелингвистических факторов: статусно-ролевые характеристики адресанта и адресата, форма речи, характер общения, тип содержания, среди которых, безусловно, главным следует признать интенциональную направленность. Материал показывает, что для реализации функции государственного управления в органах исполнительной власти используется значительный по объему класс предписатель-ных текстов, который включает два подкласса: директивные и регламентирующие документы.
Целью нашей статьи является описание специфики выражения категории тональности в директивных жанрах, в число которых входят указ, приказ, постановление, решение, распоряжение и директива.
В лингвистике тональность соотносят с категорией модальности, а именно с конкретным ее видом – субъективной модальностью. Ш. Балли называет модальность «душой предложения» и считает основным средством ее выражения модальный глагол, который «может содержать самые различные оттенки суждения, чувства или воли» [Балли 1955: 44], F. Palmer (2001) представляет типологическое описание модальности,
G. D’Acquisto выявляет особенности выражения разных видов модальности в дипломатическом дискурсе (2017). В зарубежной лингвистике понятие тональности встречается лишь в отдельных исследованиях: M. Halliday говорит о функциональных разновидностях языка – регистрах общения, каждый из которых употребляется в определенном поле, или сфере деятельности, и характеризуется тональностью, отражающей настроение, модальность, интенсивность, оценку говорящих в зависимости от их социальных ролей [Halliday 1978: 144].
В российской лингвистической науке тональность нередко становится предметом специальных исследований. Т. О. Багдасарян считает тональность компонентом модальности и выделяет 36 «чистых» видов тональности, указывая на то, что описать все оттеночные значения невозможно [Багдасарян 2000: 10–11]. В. И. Карасик выдвигает тональность в качестве одного из критериев классификации дискурса и истолковывает ее как «эмоционально-стилевой формат общения, возникающий в процессе взаимовлияния коммуникантов и определяющий их меняющиеся установки и выбор всех средств общения», справедливо замечая, что система тональностей весьма вариативна и соотносится с типами дискурса [Карасик 2009: 304]. Встречено также ряд исследований, посвященных рассмотрению тональности в разных сферах коммуникации: в научном стиле – Л. М. Лапп (1989), в разных функциональных стилях – Т. В. Матвеева (1990), в деловых текстах – Н. В. Орлова (2014), Л. Р. Дускаева, О. В. Протопопова (2015).
В данном исследовании тональность понимается нами вслед за Т. В. Матвеевой как функционально-семантическая текстовая категория, отражающая эмоционально-волевую установку автора текста, его позицию по отношению к предмету речи, адресату и ситуации общения и включающая семантические субполя эмоциональности, интенсивности и волеизъявления. В структурном отношении тональность является полевой категорией [Матвеева 1990: 27]. Анализ документов исполнительной власти в аспекте текстовых категорий, к числу которых относится тональность, даст возможность построить целостную жанровую систему, посредством которой реализуется государственное управление и осуществляется коммуникация органов исполнительной власти с обществом.
Обратимся к группе директивных жанров. Общий характер тональности обусловлен экстра-лингвистическими особенностями данной группы документов: функцией государственного управления, особым – деонтическим – типом мышления, специфическими задачами выраже- ния коллективной воли и ее законодательного закрепления в форме правовых актов, а также наличием отношений субординации между коммуникантами. За счет этого формируется генеральная тональность директивных документов, базирующаяся на доминировании предписатель-ной тональности.
Жанровые заголовки директивных документов обладают максимальной проспективной силой. Они задают общую тональность всего озаглавленного текста. Учитывая значимость жан-рообозначений в рамках ОДС, на основе метода ступенчатой идентификации лексического значения [Кузнецова 1969] опишем сходство и различие лексических значений лексем – жанровых наименований директивных документов.
Большинство жанровых номинаций директивного подкласса (указ, приказ, постановление, решение, распоряжение, директива) имеют в составе лексического значения сему процессуальности, т. е. отсылают к действию ( указать, приказать, постановить, решить, распорядиться ). Представим значение лексем – жанрообозначений – в виде комбинации сем: 1) указание, распоряжение (сема процессуальности; обозначает вид речевой деятельности); 2) исходящее от представителей власти (сема официальности); 3) обязательное для исполнения; 4) содержащее правила поведения, выполнения действий; 5) ориентированное на адресата.
Лексемы распоряжение и директива могут иметь более широкое значение, чем остальные. Так, в «Толковом словаре…» лексические значения этих слов интерпретируются путём перечисления объектов, которые именуются данными словами: распоряжение – приказ, постановление; директива – руководящее указание; распоряжение, приказ [ТС: 811, 199]. Словарный кон-кретизатор руководящее выражает дополнительный семантический признак: директива всегда исходит от вышестоящего субъекта, что и отражено в корне данного слова. Обобщенность семантики позволила документоведам использовать лексемы распоряжение и директива для номинирования целой группы деловых бумаг (распорядительные, или директивные документы).
Обобщая данные словарного обследования жанрообозначений, приходим к следующим выводам: 1) ведущей коммуникативной интенцией директивных документов исполнительной власти является волеизъявление; 2) автором этих текстов может быть отдельное должностное лицо или орган исполнительной власти в целом; автор находится по отношению к адресату в вышестоящей позиции и имеет полномочия предписывать ему определенный тип поведения; 3) адресат директивных жанров – массовый или индивидуаль- ный, выступающий в правовой сфере субъектом правовых отношений, – на статусно-ролевой лестнице находится ниже автора и потому обязан следовать закрепленным в документе предписаниям; 4) содержанием директивных документов является требование, волеизъявление властного органа (автора текста) о правилах поведения адресата.
С учетом доминантной коммуникативной интенции деловых текстов представим характеристику субполей тональности директивных жанров дискурса исполнительной власти начиная с волеизъявления как наиболее значимого компонента данной категории.
В целом в деловых текстах субполе (СП) волеизъявления может быть представлено четырьмя микросубполями (микроСП): запрещения, дозволения, обязывания , констатации / установления . Такое членение отражает выделяемые в правоведении в качестве основных такие способы правового воздействия, как запрет, дозволение и позитивное обязывание, а в качестве дополнительных – утверждения, рекомендации, поощрения и др. [Шаргородский, Иоффе 1957; Бошно 2014]. Очевидно, что основанием выделения этих способов является характер предписания или отсутствие выраженного волеизъявления.
Общесмысловое содержание запрещения можно выразить формулой «запрещается (нельзя) совершать такие действия» , т. е. запрет всегда содержит предписание о недопустимом поведении или действии. Общесмысловое содержание дозволения выражается формулой «дозволяется (можно) совершать такие действия» , дозволение предполагает предоставление адресатам права действовать так, как написано в документе. Общесмысловое содержание обязывания – «нужно (дóлжно) совершать такие действия» , обязывание обозначает наложение на адресата необходимости выполнения определенных действий. Общесмысловое содержание констатации можно передать формулой «этот факт соответствует действительности / закону» , констатация предполагает фиксирование какого-либо факта. Более категоричным вариантом констатации является установление, которое можно передать формулой «с этого момента этот факт следует считать официальным, соответствующим закону» ; установление предполагает подчеркнутую констатацию какого-либо изменения в социальной практике и провозглашение нового состояния как обязательного, закрепленного законом.
В директивных документах исполнительной власти реализуются только два из перечисленных микросубполя: микроСП обязывания и микроСП констатации / установления .
Функционально-семантическое поле микроСП обязывания создают следующие группы языковых средств: лексические единицы, составляющие ядро микроСП, – жанровые обозначения документов; лексемы с семантикой долженствования ( руководство, управление, координация и др.); глаголы приказывать и постановлять , выражающие проявление воли.
На морфологическом уровне ядерными показателями микроСП обязывания являются: форма 1 лица единственного числа настоящего времени глаголов постановлять и приказывать (перформативов); форма 3 лица единственного числа настоящего времени глагола постановить ; форма множественного числа прошедшего времени глагола решить .
Типичными средствами микроСП обязывания выступают также инфинитивные формы глаголов совершенного вида, называющие стандартные единичные конкретные действия, обязательные для выполнения адресатом: утвердить прилагаемые изменения, внести поправки. Например, пункт приказа, содержащий предписание Утвердить положение №.., означает буквально ‘окончательно установить, официально оформить указанный документ’. Поскольку инфинитив как исходная форма «только называет действие и никак не обозначает его отнесенности к лицу и числу» [РГ I: 671], в пунктах приказов и постановлений он часто сопровождается существительным в дательном падеже, называющим субъекта, которому предписывается выполнить это действие: Предс ед а тел ям советов ректоров высших учебных заведений разработать и утвердить на совете положения о совете ректоров.
По нашим данным, глаголы совершенного вида в директивных документах составляют 58– 64 % всех глаголов в тексте, хотя в целом в языке «глаголы несовершенного вида употребляются в более широких и более разнообразных условиях, чем глаголы совершенного вида» [РГ I: 610]. Употребляясь в директивных документах в конкретно-фактическом значении (в отличие от конкретно-процессуального у глаголов несовершенного вида), глаголы совершенного вида называют целостные, результативные действия, которые обязательно должен выполнить адресат.
Синтаксическими операторами микроСП обязывания становятся инфинитивные предложения со значением побуждения, обращенного к адресату, образующие отдельные абзацы-пункты, каждый из которых содержит обязательное для исполнения предписание с указанием субъекта, объекта и сроков выполнения действия: Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников (Шишкановой И. А.) в срок до 30 ноября 2015 г. обеспечить формирование перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты.
МикроСП констатации / установления характеризуется другим составом и структурой поля тональности.
Лексическими средствами данного микроСП являются лексемы постановление, постановить , решение, решить, утверждение, утвердить с семантикой установления, т. е. официального удостоверения, фиксации. Подчеркнем, что в структуре лексического значения слов постановление и постановить содержатся семы долженствования и установления, поэтому считаем возможным отнести эти лексемы к обоим указанным микроСП волеизъявления.
Тональность установления формируют также отыменные предлоги в целях, на основании, во исполнение, указывающие на мотив, основание и цель волеизъявления властных органов, употребленные в преамбуле: Во исполнение Федерального закона.., а также в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Министерства финансов… Чаще всего мотивом документально оформленного волеизъявления в дискурсе исполнительной власти оказывается необходимость исполнения законодательного акта (в тексте этот мотив формулируется предложно-падежной конструкцией с отыменным предлогом во исполнение ).
МикроСП констатации / установления на морфологическом уровне реализуется использованием глаголов несовершенного вида в значении «настоящего констатации»: Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. От «настоящего констатации» несколько отличается «настоящее установления»: Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания (подробно о различиях между констатацией и установлением см.: [Кыркунова 2007]) .
Синтаксическими конструкциями, характерными для микроСП констатации / установления, оказываются назывные предложения, с помощью которых оформляются обязательные для документов реквизиты: «дата и место составления документа», «подпись» и «р егистрационный номер документа». Именно реквизиты позволяют подчеркнуть официальность составляемого документа. Эти компоненты закрывают тональную рамку установления, утверждения. К синтаксическим средствам микроСП констатации / установления следует отнести также обороты с деепричастиями, имеющими семантику основания, соответствия: руководствуясь (чем?), основываясь (на чём?).
Жанровые различия экспликации субполей волеизъявления касаются не только набора при- меняемых языковых средств разных уровней. Важны также параметры расположения сигналов субполя в жанре-текстотипе (собственная композиция сигналов тональности) и степени категоричности предписания (базовой семы поля тональности директивных документов) в каждом из жанров. Остановимся на этих параметрах подробнее.
Языковые средства микроСП обязывания в текстах указов, приказов и постановлений («ядерная триада» директивных документов) образуют типичную последовательность: 1) жанровый заголовок документа, задающий тональность целого текста; 2) тематический заголовок, часто содержащий лексемы с семантикой долженствования; 3) глаголы-перформативы ПРИКАЗЫВАЮ / ПОСТАНОВЛЯЮ , вынесенные в отдельную строку и набранные прописными буквами; 4) пункты-абзацы, синтаксически представляющие собой инфинитивные предложения, обычно начинающиеся с инфинитива со значением категоричного предписания.
Средства микроСП констатации / установления на текстовом пространстве указов, приказов и постановлений располагаются в ином порядке: 1) в преамбуле указываются причины, мотив или цель издания документа ( в целях, в соответствии, во исполнение ); 2) в последнем пункте распорядительной части обычно указывается лицо, ответственное за выполнение предписаний документа ( контроль возложить на… ), или дата вступления документа в силу ( Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания ); 3) обязательные реквизиты: « дата и место составления документа», «р егистрационный номер документа», «подпись», – удостоверяющие официальную форму документа.
Следует отметить признак взаимовлияния субполей обязывания и констатации / установления в триаде основных директивных жанров: начинаясь категоричным предписанием в жанровом заголовке, тональность обязывания далее «приглушается» в тематическом заголовке, представляющем собой синтаксически незаконченную конструкцию – предложно-падежное сочетание, включающее лексемы с семантикой долженствования. Затем в преамбуле задается тональность констатации (обозначается мотив или цель составления документа), которая прерывается проспективно значимым глаголом-перформативом приказываю (высокая степень категоричности) или постановляю (близкая к ней степень категоричности), распространяющим свое влияние на пункты-предписания распорядительной части. Эти пункты, как правило, начинаются инфинитивными формами глаголов, также являющимися носителями категоричности предписа- ния. Последний пункт распорядительной части оказывается подчеркнуто-констатирующим: в этом пункте составитель указывает срок действия документа или устанавливает свою ответственность за исполнение предписаний. Завершается документ тональностью установления, отраженной в заключительных реквизитах. Таким образом, в тексте налицо совмещение признаков обязывания и констатации / установления.
Семантика интенсивности в нашей группе документов накладывается на семантику волеизъявления и реализуется как степень категоричности предписания, различная для отдельных жанров.
В жанрах указа и приказа проявляется высшая степень категоричности предписания, причем предписание касается резких изменений каких-либо социальных условий (снятие с должности, награждение государственными наградами и т. д.). В данных жанрах наблюдается высокая концентрация директивных средств: жанровое название ( указ / приказ ) + глагол-перформатив ( постановляю / приказываю ) + несколько инфинитивных конструкций на небольшом пространстве текста. Издавая указ или приказ и используя в нем перформативный глагол, адресант совершает речевое действие, а не описывает его. Особая сила предписания в указе и приказе подчеркивается, по нашему мнению, также употреблением в реквизитах указанных документов офи-ционимов – обозначений высшего органа в государстве и руководителя органа власти, учреждения ( Президент Российской Федерации и др.).
В жанре постановления заглавная номинация постановление и глагол постановляют характеризуются, наряду с семантикой долженствования, семантикой установления. Отсутствие глагола-перформатива в тексте документа переводит речевое действие (поступок) волеизъявления в класс традиционных текстов, за счет этого в данных жанрах снижается категоричность предписания. В жанре решения глагол решил , не являющийся перформативом и употребляющийся в форме прошедшего времени, также реализует значение установления, смягчая тем самым категоричность предписания текста в целом. В отличие от указа и приказа, содержащиеся в постановлении и решении предписания предстают в статике: в этих жанрах прописываются нормы поведения, которые должны стать неизменными на длительный период.
Жанры распоряжения и директивы имеют, в отличие от остальных, упрощенную композицию, в них отсутствует преамбула и глагол-перформатив. Тональность обязывания поддерживается здесь следующими друг за другом пунктами-предписаниями, представляющими собой инфинитивные предложения, и сменяется установле- нием, выраженным в неопределенно-личных конструкциях. По данным словарей, в названии жанра распоряжение актуализируется значение ‘внести упорядоченность в течение делʼ. Именно этим определяется специфика распоряжения, заключающаяся в снижении масштабов распространения положений документа, снятии нажима при изъявлении воли автора и уменьшении интенсивности предписания.
На основании сказанного можно утверждать, что директивные документы исполнительной власти характеризуются широким диапазоном тональности: от категоричного, решительного предписания в одних директивных жанрах до сдержанного установления факта – в других. Кроме того, обязывание и констатация / установление могут сочетаться. Данный вывод уточняет представление об ОДС как сфере категоричного волеизъявления (см., например: «В частности, оф.-дел. стилю свойственна императивность как выражение воли… и поэтому предписующе-долженствующие значения самых различных языковых единиц придают речи окраску категоричности» [Кожина, Котюрова 2003: 407]).
Помимо жанрообозначений, СП интенсивности в директивных документах исполнительной власти создается использованием лексем, имеющих в структуре лексического значения сему усиления ( урегулирование, совершенствование, увеличение и др.), но утративших свою генетическую экспрессивность. Усилительно-экспрессивные лексемы употребляются в преамбулах документов и выполняют функцию обоснования, мотивировки волеизъявления: В целях… увеличения сбора налогов и платежей в доход федерального бюджета, снижения общей суммы взаимной задолженности организаций… Правительство Российской Федерации постановляет. С их помощью создается образ результата предпринимаемых деловых действий, закладывается противопоставление деловой ситуации до и после появления документа. В контексте доминирующего в директивных документах СП волеизъявления такие единицы подключаются к ведущей семантике стиля. Следует отметить, что ритуализация употребления таких единиц переводит их в план выразительности текста.
СП эмоциональности как третья составляющая тональности текста в принципе противопоказана ОДС. В работах по функциональной стилистике среди стилевых черт данного стиля отмечается присущий ему нейтральный тон, безэмоциональность. Это проявляется, с одной стороны, в употреблении стереотипных языковых единиц – канцеляризмов, правовых терминов, с другой – в отсутствии экспрессивно и эмоционально окрашенной лексики, оценочных средств, а также восклицательных предложений. Лишь изредка в распорядительной части обнаруживаем генетически эмотивные единицы, превратившиеся в штампы, утратившие исконную выразительность: несвоевременные меры, неудовлетворительное состояние и др.
В целом во всех директивных жанрах отмечается употребление лексики двух лексикосемантических парадигм: канцелярско-деловой и официально-документальной. Среди них наиболее многочисленны стереотипные единицы: внести изменения, изложить в новой редакции, признать утратившими силу, контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Они описывают типичные процедуры делопроизводства, документооборота и организационной деятельности органов власти и государства. Деепричастные обороты руководствуясь ст. 6 ФЗ №.., основываясь на... и т. п., имеющие, как известно, книжный характер, подчеркивают значимый для правовой сферы факт опоры на законодательную базу и основания предписаний составителя документа. Широко используются официонимы (названия должностей, учреждений и т. д.), абстрактные существительные административной сферы ( контроль, ответственность, соблюдение ), в том числе отглагольные ( прекращение, подписание, прохождение ), а также отыменные предлоги ( во избежание, на основании, в соответствии и др.). Все эти средства, присущие книжным стилям в целом или являющиеся маркерами деловой сферы в частности, формируют официальную тональность речи.
Итак, поле тональности директивных документов исполнительной власти характеризуется следующей системой субполей и их компонентов. Ведущее место принадлежит СП волеизъявления , располагающему обширным количеством лексических единиц с семантикой воли, а также жанровыми традициями их грамматического оформления, комбинаторики и расположения в тексте. Яркую специфику ОДС в целом и рассматриваемого дискурсивного типа официальноделовых текстов составляют заголовки-жанро-обозначения, содержащие в своей семантике компонент воли. Доминантный характер СП волеизъявления подчеркивается плотностью последнего и его распространением на весь текст.
Микросубполя волеизъявления, актуальные для директивных документов, связаны с реализацией идей обязывания и констатации / установления. Каждая из них обеспечивается собственным набором речевых сигналов, организованных в виде определенной последовательности, т. е. имеет собственную композиционно-речевую модель. Так, жанр приказа формируется сочетанием жанрового наименования документа в абсолют- ном начале заголовочного комплекса с глаголом-перформативом в конце преамбулы, а в предпи-сательной части дополняется рядом инфинитивов, называющих действия, обязательные для выполнения.
СП интенсивности выявляется на том же языковом лексическом материале, т. е. носит суперсегментный характер. Категория интенсивности директивных документов экстраполируется на категорию воли и, в результате, осмысляется как категоричность волеизъявления. Будучи мерной категорией, интенсивность имеет различные степени проявления. Директивные документы исполнительной власти носят более (в жанрах указа, приказа) или менее (в жанрах постановления, распоряжения) высокую степень категоричности. В рамках отдельно взятого текста может наблюдаться ослабление интенсивности по мере дифференциации его фактического содержания.
СП эмотивности характеризуется отодвинутым характером: здесь нет языковых средств, прямо и непосредственно выражающих эмоцию, а генетически эмотивные единицы полностью утратили первичные смыслы такого рода, превратившись в речевые штампы деловой речи. Эмотивная тональность директивного документа усматривается только в официальности текста, достигаемой канцеляризмами, официонимами и другими средствами книжности языковых единиц.
Жанровые различия внутри группы директивных документов проявляются в основном в реализации двух описанных выше микросубполей волеизъявления. Значимо также их соотношение: при усилении степени категоричности предписания микроСП констатации / установления становится менее выраженным, а при усилении семантики констатации снижается степень категоричности выраженных в тексте предписаний.
Таким образом, материал демонстрирует стилистико-речевую системность как дискурсивного типа (дискурса исполнительной власти) в целом, так и конкретных жанров в рамках данного дискурса. В области категории тональности закономерности речевого оформления жанровых разновидностей директивных документов непреложны.
THE CATEGORY OF TONALITY IN DIRECTIVE DOCUMENTS
OF THE EXECUTIVE BRANCH
Mariya A. Shirinkina
Associate Professor in the Department of Russian Language and Stylistics
Perm State University
Список литературы Категория тональности в директивных документах исполнительной власти
- Анисимова Т. В. Типология жанров деловой речи (риторический аспект): дис.. д-ра филол. наук. Краснодар, 2000. 417 с.
- Багдасарян Т. О. Тональный компонент модальности в коммуникации: на материале английского и русского языков: дис.. канд. филол. наук. Краснодар, 2000. 175 с.
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 416 с.
- Бошно С. В. Способы и методы правового регулирования//Право и современные государства. 2014. № 3. С. 52-60.
- Дускаева Л. Р., Протопопова О. В. Стилистика официально-деловой речи. М., 2012. 272 с.
- Дускаева Л. Р., Протопопова О. В. Сводки Совинформбюро: своеобразие выражения тональности//Медиалингвистика. 2015. № 4(10). С.119-128.
- Карасик В. И. Языковые ключи. М.: Гнозис, 2009. 406 с.
- Кожина М. Н. К основаниям функциональной стилистики. Пермь, 1968. 252 с.
- Кожина М. Н., Котюрова М. П. Стилевые черты//Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 403-408.
- Кузнецова Э. В. Метод ступенчатой идентификации в описании лексико-семантических групп слов//Проблемы моделирования языка: Ученые записки Тартуского университета, 1969. Вып. 228. С. 85-92.
- Кыркунова Л. Г. Официально-деловые тексты в аспекте функционально-смысловых типов речи: дис. канд. филол. наук. Пермь, 2007. 181 с.
- Лапп Л. М. Общая (текстовая) «тональность» научного текста с точки зрения объективной модальности//Функционирование языка в различных типах текста. Пермь, 1989. С. 47-58.
- Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. 172 с.
- Матвеева Т. В. К лингвистической теории жанра//Collegium. 1994. Вып. 4-5. С. 65-71.
- Орлова Н. В. Модальность и тональность современных документов с предписывающей функцией//Вестник Омского университета. 2014. № 4. С. 188-193.
- Русская грамматика/Н. Ю. Шведова (гл. ред.). М.: Наука, 1980. Т. I. 789 с.
- Серцова А. П., Пичугин П. В. Политические и правовые взгляды и идеи//Формы общественного сознания. М.: Изд-во МГУ, 1960. С. 52-97.
- Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова; отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Изд. центр «Азбуковник», 2011. 1175 с.
- Шаргородский М. Д., Иоффе О. С. О системе советского права//Советское государство и право. 1957. № 6. С. 101-110.
- Ширинкина М. А. Документы исполнительной власти в функционально-стилистической системе русского языка//Известия УрФУ. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2017. Т. 19, № 2(163). С. 134-146.
- D 'Acquisto G. A Linguistic Analysis of Diplomatic Discourse: UN Resolutions on the Question of Palestin. Cambridge Scholars Publishing, 2017. 128 p.
- Halliday M. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Arnold, 1978. 256 p.
- Lee D. Genres, Registers, Text Types, Domains, and Styles//Language Learning & Technology. September 2001. Vol. 5, no. 3. P. 37-72.
- Palmer F. Mood and Modality. Cambridge University Press, 2001. 236 p.
- Киреева Е. З. Жанры подзаконного дискурса//Жанры речи. 2016. № 1. С. 78-86.