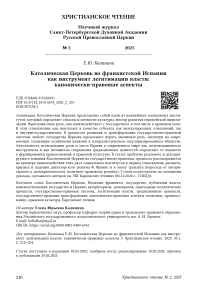Католическая Церковь во франкистской Испании как инструмент легитимации власти: канонически-правовые аспекты
Автор: Е.Ю. Калинина
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право. Материалы VIII Барсовских чтений
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Католическая Церковь представляет собой один из важнейших социальных институтов, который определяет смыслы и ценности культуры, вектор развития европейской цивилизации. Выполняя свою роль, она взаимодействует с государством, в том числе в правовом поле. В этих отношениях она выступает в качестве субъекта как международных отношений, так и внутригосударственных. В процессах развития и трансформации государственноправовой системы любого государства Церковь продолжает играть значимую роль, несмотря на современные тенденции ослабления влияния в плюралистическом секуляризированном обществе. Актуальность исследования роли и места Церкви в современном мире как легитимационного инструмента и как механизма сохранения традиционных ценностей определяет ее важность в формировании правосознания и правовой культуры. В статье проблема реального и декларируемого влияния Католической Церкви на государственноправовые процессы рассматривается на примере взаимодействия этих двух социальных институтов в период становления, расцвета, кризиса и падения диктаторского режима Ф. Франко и в эпоху транзита (перехода от авторитарного к демократическому политикоправовому режиму). Статья подготовлена на основании доклада, сделанного автором на VIII Барсовских чтениях (06.12.2024 г., СПбДА).
Католическая Церковь, Испания, франкизм, государство, публичная власть, взаимоотношения государства и Церкви, авторитаризм, демократия, переходные политические процессы, государственноправовая система, легитимация власти, традиционные ценности, государственноправовая трансформация, каноническиправовые аспекты политики, правосознание, правовая культура, Барсовские чтения
Короткий адрес: https://sciup.org/140309611
IDR: 140309611 | УДК: 272(460)-9:322(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_210
Текст научной статьи Католическая Церковь во франкистской Испании как инструмент легитимации власти: канонически-правовые аспекты
В социальной и государственно-правовой системе Церковь занимает одно из наиболее значимых мест. В истории европейской государственности и права она является центральным звеном, вокруг которого выстраивалась публичная власть и сама цивилизация. Й. Хейзинга подчеркнул, что западная культура, в том числе правовая, — это латинское христианство [Хёйзинга, 2011]. Лишь к кон. ХХ в. политика и право подверглись секуляризации, которая стала принципом новой эпохи постсовременности. Это отвечало потребностям не только государства, но и самой Церкви, что показали, например, решения II Ватиканского Собора, о котором речь пойдет далее. Автономия и независимость — два основания правовых отношений между государством и Церковью в Европе сегодня [Motilla de la Calle, 1991–1992]. Взаимодействие государства и Церкви в Испании развивалось, с одной стороны, в рамках общекультурной европейской модели — Испания представляет собой ее периферийную сферу. С другой стороны, эта страна обладает рядом особенностей, обусловивших своеобразие взаимосвязи этих двух социальных институтов.
Целью настоящего исследования можно назвать выявление роли Католической Церкви в установлении, поддержке франкистского режима и в переходных процессах от авторитаризма к демократии. Эта тематика актуальна в связи с необходимостью понимания места Церкви как инструмента легитимации власти и формирования идеологии и исторической памяти в современном обществе, в том числе в периоды социально-культурной трансформации. Для достижения поставленной цели нужно кратко рассмотреть историю взаимодействия Церкви и государства, чтобы выявить наиболее значимые тенденции, оказавшие влияние на современную ситуацию. Особое внимание будет уделено юридической практике данных отношений в период диктатуры на основе заключенных соглашений, основным из которых можно считать Конкордат 1953 г. Отдельно рассматривается роль Католической Церкви в становлении и развитии диктатуры, где Церковь выступала прежде всего в качестве легити-мационного инструмента, используемого властью для формирования правосознания населения, основополагающих ценностей и исторической памяти. Не менее важно и то, что в дальнейшем Церковь поменяла свою позицию и сыграла значимую роль в процессе демократизации.
Предварительные наброски истории взаимоотношений Церкви и государства в Испании
С XI в. в Европе началось создание концепции Католической Церкви не только как трансцендентного религиозного (духовного, морально-нравственного) социального института, но и как сложившейся юридически определенной политико-правовой корпорации с собственной инфраструктурой и разработанным (даже в большей степени, чем светское, — в тот момент времени) каноническим правом [Traslosheros, 2006]. Церковь справедливо претендовала на господство в сфере политики и права, поскольку представляла собой наднациональную структуру, способную объединять разрозненные и конфликтующие пространства (географические, политические, экономические, правовые, культурные). Поскольку христианская Церковь выстраивалась на основе норм и принципов Римской империи, сохраняя систему институтов и правовых актов, то ранние средневековые варварские государства Европы воспринимали сложившуюся структуру установления и поддержания общественного порядка, что может свидетельствовать о парадоксальном, казалось бы, факте: не Церковь копировала государственно-правовые институты, а наоборот, европейские средневековые монархии адаптировали забытые римские структуры через Церковь. Если точнее, то Церковь, рожденная в недрах римской государственности, не могла не присвоить основополагающие принципы построения системы, способной управлять крупными сообществами, унифицировать политико-правовые пространства, включая разнородные модели регулирования общественных отношений. Церковь сохранила и пронесла через века идеи исчезнувшей античной империи, ставшей, таким образом, предшественницей европейской государственности. Затем варварские королевства, не найдя лучших эталонов для построения фундамента публичной власти, взяли за основу структуры власти и управления, составляющие базис римской Церкви.
Формирующаяся испанская государственность во взаимодействии с Католической Церковью не могла не включиться в европейскую цивилизационную модель. Однако Испания существенно отличалась от других государств Европы. Можно выделить два наиболее весомых отличия. Во-первых, это более тесная связь с Римом. Римские провинции обладали разным политическим и правовым статусом, и Испания была наиболее значимой частью империи, включающей несколько провинций. Можно предположить, что Испания стала одной из хранительниц римских основ государственности и права, которые затем стали одним из оснований европейской цивилизации. Во-вторых, в Испании рано начала формироваться публичная власть как основа будущей государственности современного типа. Прежде всего это было выражено в том, что сложилась иерархическая модель взаимодействия разных нормативных систем, в которой королевская власть занимала ведущее место, что распространялось и на отношения с Церковью. Произошел не только процесс становления сильной монархической суверенной власти, но и ее рационализация, очищение от мистических элементов, обычно служащих легитимации, что привело к централизации, в том числе относительно правопорядка и правосудия.
Испания находилась на переднем краю столкновения христианской и мусульманской цивилизаций. В процессе Реконкисты представители власти требовали большей свободы для возможности манипулирования, принятия решений без согласований с понтификатом (в том числе в вопросах назначения церковных иерархов), поскольку эти решения принимались во благо всей христианской цивилизации и Рим был вынужден идти на значительные уступки. В свою очередь, это оказало влияние на раннюю централизацию и суверенность, укрепление публичной власти в сфере политики, права, экономики и ее институтов.
В ХХ в., в эпоху диктатуры генерала Ф. Франко, эти две тенденции в развитии отношений между Церковью и государством в Испании проявились в полную силу, что еще раз подтверждает их наличие и значимость в истории государства и права этой страны, несмотря на кажущуюся противоречивость. В период с 1936 г. (начало гражданской войны вследствие националистического военного мятежа) до 1978 г. (принятие демократической конституции после смерти диктатора в 1976 г.) можно выделить два этапа, содержание которых демонстрирует эволюцию отношения Католической Церкви к режиму от позиционирования себя как инструмента легитимации политической власти до декларации защиты гражданских прав. Эти этапы содержательно радикально отличаются друг от друга, поскольку варьируются от поддержки и коллаборационизма до явной оппозиции [Sangro Colón, 2015].
Взаимодействие Католической Церкви и режима Ф. Франко с 1936 г. (начало гражданской войны) до 1962 г. (начало работы II Ватиканского Собора по выработке политических решений)
Именно этот период взаимодействия обозначается в научной литературе как «национал-католицизм», авторитарный режим, в котором в едином политическом пространстве осуществляют государственное управление в тесном сотрудничестве церковная и публичная власти. Это сочетание крайне ортодоксального католицизма с идеей нерасторжимой взаимосвязи государства и Церкви. Особой вехой в истории данного типа авторитарного режима в правовом аспекте можно считать 1953 г. Это год заключения Конкордата с Ватиканом, в котором подчеркивались указанные принципы управления и декларировалась поддержка Католической Церкви со стороны испанского государства взамен на такое же безоговорочное содействие со стороны Рима.
Внутри Испании «национал-католицизм» идеологически обосновывался идеей «крестового похода» Ф. Франко. Эта концепция поначалу не имела ни религиозного, ни выраженного политического содержания. Это была идеологическая метафора, своего рода социальная реклама режима, установившегося при очевидной поддержке государств, проигравших во Второй мировой войне и отнесенных к разряду «фашистских» (Италия Муссолини и Германия Гитлера). Военные власти либо не используют понятие «крестовый поход», либо не придают ему религиозного значения (например, «патриотический крестовый поход», «крестовый поход в защиту Испании»). Ни Франко, ни Мола, ни Кейпо де Льяно — вожди мятежа против Второй Республики — не проявляли личного религиозного рвения. Даже, скорее, наоборот: в июне 1936 г. были намечены планы на будущее при построении «новой Испании», в которых содержалось отделение Церкви от государства и свобода вероисповедания [Miret Magdalena, 1980, 78]. Но после поражения фашизма и национал-социализма Франко рисковал оказаться в полной международной изоляции. Европейские страны праздновали освобождение, и диктатор, пришедший к власти при поддержке Гитлера и Муссолини, был предан остракизму. Испания перешла в режим автаркии, который не мог продолжаться долго. Нужно было искать не просто союзников, но таких, которые бы вывели страну в число равных партнеров в Европе и мире. Ватикан снова стал таким проводником, что повторило ситуацию кон. XV–XVI вв.
Со временем идея «крестового похода» появляется в религиозно-политическом дискурсе с целью легитимации власти и закрепления союза государства и Церкви. Одним из создателей концепта в идеологическом пространстве считается кардинал Исидро Гома и Томас, в последующем представитель Святого Престола при правительстве Франко. Хотя в его выступлениях эта идея появляется в 1936 г., но только в 1939 г. — уже постфактум — он называет гражданскую войну «крестовым походом». В 1937 г. Франко тоже упоминает это сочетание, обращаясь к нации со следующим посланием: «Мы стоим перед серьезным кризисом… к сожалению, с каждым днем война приобретает всё больший характер крестового похода... и трансцендентальной борьбы народов и цивилизаций» [Moreno Martín, 2019].
Наряду с армией и Фалангой (ведущей политической силой — это, скорее, не партия, а общественное движение, поддержанное государством), Церковь являлась одним из важнейших столпов в символическом построении идеологии и памяти, что отражалось и в нормативно-правовых актах. В этот период в государстве имелось две организации, обладающие наибольшим социальным легитимационным потенциалом изо всех, которыми располагал режим: Церковь и Фаланга [Hernández Burgos, 2019]. Церковь способствует символическому построению франкистской вселенной, придавая ей трансцендентные смыслы, объединяющие народ вокруг диктатора. Протоиерей Рибадео Энрике Лопес Галуа опубликовал в 1941 г. любопытную книгу «Будущее величие Испании в соответствии со знаменательными пророчествами», в которой защищал «крестовый поход» с помощью отрывков из сочинений многочисленных католических пророков самого разного толка. Его вывод заключался в том, что испанцам «необходимо все более и более ярко воспламеняться тремя великими любовями, которые являются таинственной основой их великих успехов и небесного призвания: любовью к религии, любовью к Родине и любовью к Каудильо» [Miret Magdalena, 1980, 84]. На основе этих идей интеллектуальный и пропагандистский аппарат Франко создал эффективный мобилизующий дискурс, содержащий множество символов и отсылок к Средневековью и имперскому прошлому Испании, которыми можно было заполнить общественное пространство и создать политику памяти, направленную на легитимацию режима [Moreno Martín, 2019].
Отвечая на вопрос, зачем это нужно было Церкви, почему она безоговорочно выбрала путь сотрудничества с диктаторским режимом, можно заметить, что, во-первых, таким образом она защищала себя как институт, а также многочисленных верующих на республиканских территориях, которые по мере продвижения войск мятежников подвергались жесточайшим репрессиям. Во-вторых, она рассчитывала вернуть себе «исторические привилегии», которыми обладала до установления Второй Республики, относившейся к религии необычайно жестко. Нередко исследователи утверждают, что реакция Католической Церкви была ответом на репрессии (и действительно, было разрушено и разорено множество храмов и монастырей, убито большое количество священнослужителей, а монахини нередко подвергались насилию), но зачастую однозначный переход на сторону франкистов предшествовал этим событиям или, по крайней мере, шел параллельно с ними. «Церковь поспешила благословить войну с самого начала и затем прожила долгую эпоху полного счастья с режимом, который защищал ее, наделял привилегиями, защищал ее принципы и сокрушал ее врагов» [Castillo Esparcia, Castillero Ostio, 2019, 65]. Республика, в свою очередь, столкнулась с трудностями в интеграции очень большого числа испанских католиков, традиционно настроенных крестьян, рабочих, что стало одной из причин ее кризиса. Поэтому идеологические построения Франко — хотя они и кажутся примитивными для правосознания ХХ в. — в качестве маятника повлияли на значительную часть населения, воспринявшую поначалу авторитарный режим как спасение [Castillo, 1999]. «Не все представители Церкви и верующие были фашистами, но у них были общие символические дискурсивные пространства. В той степени, в какой фашизм был като-лизирован, во время войны католицизм также был фашизирован» [Rodrigo, 2014, 557].
Католическая Церковь связала франкистский режим с Испанией, понимаемой как нация, избранная Богом для защиты христианства, лидер которой, Франко, был представителем Бога на земле и защитником цивилизации. Таким образом, произошла борьба между добром и злом; борьба католической Испании против «язычников», что привело к конфронтации между этими двумя Испаниями из-за религии. Это напоминало не просто крестовые походы Средневековья. Это было близко по смыслу Реконкисте, отвоеванию территории у арабов, захвативших когда-то большую часть полуострова. Эта отсылка сыграла значимую роль в процессе формирования исторической памяти. Итак, испанская Католическая Церковь как институт поддерживала франкистский режим и слилась с ним [Beltrán Dengra, 2019]. При этом важно отметить позицию Ватикана, который никогда не использовал понятие «крестовый поход» для обозначения гражданской войны в Испании. В первые месяцы отношение к происходящему разнилось среди иерархов от поддержки до осуждения. Позиция папы Пия XI нередко осуждается за пассивность, хотя ее можно объяснить некоторыми обстоятельствами: понтифик был стар, перенес в 1936 г. сердечный приступ, от последствий которого скончался в 1939 г.; он уже столкнулся с итальянским фашизмом и был вынужден признать его; затем он стал свидетелем антиклерикальных проявлений Второй испанской Республики [Núñez de Prado y Clavell, 2014].
Отметим, что и в самой Испании не все католические деятели беспрекословно подчинились и приняли режим Ф. Франко. Это касалось и высших иерархов, таких как архиепископ (затем кардинал) Франсиско Видаль и Барракер. Он был юрист по образованию, каталонец по национальности, который отстаивал, насколько это было возможно при его сане, автономию Каталонии, в том числе возможность использования каталонского языка при проведении богослужений (что было запрещено вышестоящими церковными властями). Он демонстрировал готовность сотрудничества со Второй Республикой, в отличие от многих представителей религиозной структуры, скорее всего, в связи с описанными выше обстоятельствами: новое правительство склонялось к широким договоренностям с Каталонией. Мятеж генерала Ф. Франко, напротив, Видаль и Барракер не принял, к гражданской войне относился резко отрицательно, декларировал, что Церковь не должна присоединяться ни к одной из воюющих сторон, поскольку ее миссия — устанавливать мир. Так он, по сути, выступил против относительно консолидированного мнения, выраженного в письме епископата уже в 1937 г., в котором утверждалось, что гражданская война в своей основе имеет убийства тысячи священников и представляет собой результат противостояния христианской и материалистической цивилизаций, «вооруженный плебисцит», в котором народ поднялся против «безбожного коммунизма» [Beltrán Dengra, 2019]. Он выступал против «политизации» священнослужителей и утверждал, что Церковь не может становиться инструментом государственной власти [Fuentes i Gasó, 2017]. Очевидно, что Видаль и Барракер был не единственный церковный иерарх, который имел особое мнение по поводу взаимоотношений Церкви и диктаторского режима. Это утверждение имеет значение в свете последующего анализа их развития. Мы имеем в виду официальную позицию и оценку ситуации со стороны отдельных личностей. Именно это противоречие сыграло значимую роль в становлении оппозиционного по отношению к режиму общественного мнения, что способствовало переходу к демократии.
Государственная конфессиональность становится одним из основополагающих принципов правовой системы франкистской Испании. Испанская Конституция периода диктатуры состояла из семи основных законов, принятых в разное время. Третьим по счету была Хартия испанцев 1945 г. В 6-й статье было сказано следующее: «исповедание католицизма, который является религией Испанского государства, пользуется официальной защитой; никто не должен подвергаться преследованию за свои религиозные убеждения, например за отказ от отправления культа. Никакие другие церемонии или другие внешние проявления, кроме церемоний католической религии, не допускаются» (Fuero, 1945). Конфессиональный подход вступал в прямое противоречие с принципами, принятыми большинством западных обществ [Castillo, 1999], поскольку из документа отчетливо следовало, что защита оказывается (как последствие гражданской войны) католической (и только католической!) религии. Неудивительно, что, согласно переписям, франкистская Испания представала как однонациональная и моноконфессиональная страна (что на самом деле было не совсем правдой: после гражданской войны Франко столкнулся с практически полным отсутствием религиозности в маргинальной городской среде, среди рабочего класса и даже в деревнях, население которых всегда представляло собой главный оплот Церкви [Ossandon Widow, Hernandez-Sampelayo Matos, 2021]). Режим генерала Франко проявляет явную заинтересованность в поддержании теплых отношений со Святым Престолом, регулярно прибегая к согласованному законодательству. Государство продвигает серию частичных соглашений: 1941 г. (предоставление епископских кафедр), 1942 г. (предоставление неконсисторских льгот), 1946 г. (семинарии и богословские факультеты) и 1950 г. (учреждение главного военного викариата), — которые были увенчаны Конкордатом с Ватиканом 1953 г. (Concordato, 1953).
До 1931 г., т. е. до провозглашения Второй Республики, в Испании действовал Конкордат 1851 г.: конфессиональное соглашение, в котором Церковь и государство предоставляли друг другу большое количество привилегий. Республика категорически отказывалась исполнять нормы, зафиксированные в этом Конкордате, но так и не денонсировала его, поэтому после победы мятежников в 1939 г. можно было даже говорить о том, что он остается в силе, и утверждать, что уместным было бы провозгласить его действующим официально, урегулировав тем самым отношения между Святым Престолом и новым государством. Однако этот тезис не увенчался успехом, и, вероятно, не по юридическим причинам, а скорее потому, что Конкордат 1851 г. к тому времени серьезно устарел и оказался политически непригодным. Правительство Франко рассчитывало с легкостью согласовать новый документ, учитывая свой статус недавнего победителя в войне, почти официально признанной «священной» [Hera Pérez-Cuesta, 1977].
Во исполнение пункта о государственной защите католической религии в рамках этого Конкордата 1953 г. был заключен политико-религиозный союз, который, как было признано уже десять лет спустя, сильно связывал понтификат, поскольку тот эволюционировал в русле развития Европы, а режим Франко оставался в прежних границах. Наиболее важные аспекты Конкордата можно резюмировать следующим образом: признание католицизма единственной религией испанской нации (ст. 1); гарантия свободного осуществления духовной власти [Sánchez-Camacho, 2022], (Concordato, 1953). В полном соответствии с принципом конфессиональности политика диктатора была направлена на то, чтобы вдохновлять законодательство законом Божиим, в соответствии с доктриной Католической Церкви. Как следствие, Конкордат рождается с ярко выраженной экономической и политической ориентацией. Единственные преимущества, которые он приносит государству, это преодоление международной изоляции, которой подверглась Испания, а также он давал больше юридических гарантий государственному вмешательству в церковные назначения, что указывалось в Конвенциях 1941 и 1946 гг. [Castillo, 1999]. Но при этом, как было замечено ранее, несмотря на государственную защиту и на то, что католическая философия и мораль стала основой франкистского законодательства, во второй половине диктаторского правления Церковь оказалась связанной и была вовлечена в дела политического характера, что вызывало недовольство не только со стороны отдельных священнослужителей, которые и ранее поднимали неудобные вопросы, но и внутри самой организации. Возникали разногласия между иерархией Католической Церкви и государством, стали раздаваться голоса даже о необходимости отмены режима.
После II Ватиканского Собора правовая основа Конкордата контрастирует с пастырской Конституцией «Gaudium et spes» (Gaudium Et Spes, 1965), которая поощряет автономию Католической Церкви от земной реальности, осуществление политической свободы государств. «Gaudium et Spes» представляла собой реакцию Церкви на быстрые изменения в общественном порядке и вызовы XX в. Весь текст документа пронизан размышлениями о стремительных изменениях во всех сферах общественной жизни и в самом сознании человека, что влечет необходимость для Церкви не только приспосабливаться, но осознать сущность изменений и действовать в соответствии с ними. В результате эти установления дали возможность испанской Католической
Церкви действовать более независимо от государства, что означало и возможность выражать несогласие с политикой режима.
Взаимодействие Католической Церкви и режима Ф. Франко с 1962 г. (начало работы II Ватиканского Собора по выработке политических решений) до 1978 г.
(принятие демократической Конституции Испании)
В результате II Ватиканского Собора (1959-1965) позиция понтификата в отношении франкистского режима радикально изменилась. В Испании приходские священнослужители уже давно выражали озабоченность проблемами бедности и безработицы и демонстрировали необходимость социального католицизма, далекого от идей политического режима, хотя «диссидентское духовенство» не переставало быть меньшинством. Однако их голоса стали слышать и на официальном уровне. Разделенность внутри Церкви затрудняла выбор позиции и адаптацию к новым условиям, но оказала влияние на верующих в процессе формирования новой идеологии.
В течение многих лет Церковь была опорой стабильности франкистского режима. Национал-католические постулаты распространялись в испанском обществе, пронизывая его сверху донизу: в школе, в церкви, куда верующие в Испании и сегодня приходят довольно регулярно, на улицах, в кино и театре, в других публичных пространствах, которые в той или иной степени контролировались церковными властями. Это демонстрирует значительный идентификационный и легитимационный потенциал данного института, который использовало государство. К нач. 1960-х гг. этот режим, закрепленный Конкордатом 1953 г., продолжал оставаться преобладающей религиозной концепцией в Католической Церкви и государстве. Однако в ряде католических организаций, особенно связанных с работой в молодежной и рабочей среде, зародились другие идеи, появился новый язык, закладывались новые смыслы, более социально ориентированные и основанные на той реальности, которая окружала людей, а не на идеалистических представлениях. Эта тенденция вскоре была подтверждена сверху: на II Ватиканском Соборе были сформулированы доктрины, угрожающие, казалось бы, нерушимому и взаимовыгодному союзу государства и Церкви и вынуждающие их приспосабливаться к новой реальности [Hernández Burgos, 2019]. Это увеличило трещину, образовавшуюся в этих отношениях.
Работа над созывом II Ватиканского Собора начинается в 1959 г. Его работа протекает с 1962 по 1965 гг. Во время подготовки и проведения Собора обнаруживается, что внутри Католической Церкви назрел новый раскол. Консервативная часть курии была недовольна новыми реформаторскими идеями. Положения принятой на нем пастырской Конституции «Gaudium et spes» оказали огромное влияние на происходящее в Испании. Хотя изменения произошли не сразу. Понадобилось несколько лет, чтобы священнослужители на местах осознали необходимость и возможность смены курса. В основном испанская Католическая Церковь начинает серьезно меняться на институциональном уровне к нач. 70-х гг. Отношения между Церковью и испанским государством серьезно обострились 23 июня 1969 г., после выступления папы Римского в Коллегии кардиналов. Оно было посвящено мировым проблемам, которые беспокоили Святой Престол. После того как Павел VI упомянул войну во Вьетнаме и кризис на Ближнем Востоке, он остановился на оценке ситуации, в которой оказалась Испания. Сам факт включения в список проблемных стран «третьего мира» оскорбил режим. Кроме того, испанское правительство раздражала косвенная защита рабочих движений католического действия и позиция, которую занимали некоторые епископы в социальных вопросах [Sangro Colón, 2015].
Поскольку Конкордат фактически терял юридическую силу, государство нуждалось в пересмотре соглашений и заключении новых. Политическая и правовая дискуссия между Ватиканом и Испанией длилась четырнадцать лет, и в конечном итоге стороны выбрали путь частичных соглашений. Но реализовался этот проект уже после смерти Ф. Франко. Первое из соглашений было подписано в 1976 г., а остальные четыре — только в 1979 г. Это знаменательная дата для Испании, поскольку в 1978 г. была принята Конституция, означавшая окончательный переход к демократизации страны и обозначившая его основные принципы. Она носила важный международно-правовой характер, что выражалось в принятии испанского государства в международное сообщество. Испания больше не нуждалась в протекции Церкви на международной арене, а внутри страны наблюдался переход к свободе вероисповедания. Католическая религия перестала быть единственной и тем более официальной религией, Церковь перестала быть частью государственного механизма. Испанское каноническое право было дополнено принципами равенства с другими конфессиями, признания светского характера государства и отношений сотрудничества как с публичной властью, так и с другими религиозными институтами.
В том, что касается политического влияния, Католическая Церковь к моменту смерти диктатора уже столкнулась с внутренним разладом. Более ортодоксальная часть ее не приветствовала постулаты II Ватиканского Собора. Но большая часть священнослужителей, которые существовали в реальном мире, взаимодействуя с паствой непосредственно, понимала, что перемены неизбежны. Они и сами были двигателями этих перемен, и их отношение к демократии оказывало несомненное влияние на людей. Например, один из выдающихся католических иерархов и общественных деятелей, архиепископ, а затем кардинал Висенте Энрике и Тарранкон, известный своими публичными выступлениями против франкистского режима, писал о том, что одной из его целей было «попытаться заставить Церковь потерять политическое влияние и завоевать религиозный авторитет» [Sebastián Aguilar, 2007, 78]. Как только II Ватиканский Собор завершил свою работу, Постоянный комитет Епископской конференции в Испании публикует документ под названием «Церковь и светский порядок в свете Собора», в котором излагаются постулаты Собора по вопросам взаимоотношений религиозной и светской властей, их независимость друг от друга. Как считают исследователи, эти заявления положили начало эпохе напряженности и конфликтов между Церковью и правительством. Чтобы соответствовать требованиям справедливого общества, Церковь предлагает отказаться от своих юридических привилегий, требует пересмотра Конкордата 1953 г. и выражает свои сомнения в совместимости конфессиональности государства с конституцией. В этой сложной обстановке, чтобы способствовать диалогу и снизить напряженность внутри Церкви, епископы созывают совместное собрание епископов и священников. Несмотря на то что оно не имело юридической силы, это мероприятие сыграло значимую роль в развитии политического процесса в Испании, повлияв на общественное мнение и отношение к испанской Церкви.
Среди организаций католического действия были заложены основы социальной католической доктрины, в рамках которой молодые священники принимали участие в забастовках 60-х гг. На них, в свою очередь, повлияло то, что в эту эпоху они смогли наконец выезжать за рубеж, чтобы учиться и встречаться с католическими священнослужителями других стран. Несмотря на то, что называют «экономическим чудом Франко», беспорядочный процесс урбанизации, вызванный стремительной индустриализацией некоторых районов, и феномен миграции быстро привели к появлению рабочих трущоб на периферии городов, условия жизни в которых оставляли желать лучшего. Эти районы представляли собой потенциальный очаг религиозных проблем, учитывая, что их маргинальность могла привести к опасному ослаблению нравов и, как следствие, к дехристианизации рабочих масс. Некоторые приходские священники выразили обеспокоенность по поводу безработицы, преобладания идей материализма, недостойного образа жизни, безразличия к религии, отсутствия начальных школ, отсутствия жилья в этих районах. Не лучше ситуация была среди крестьян — наиболее верных приверженцев католической религии. В некоторых сельскохозяйственных районах Андалусии, Мурсии, Эстремадуры или Кастилии-Ла-Манчи сохранилось традиционное подсечно-огневое земледелие, неспособное создать рабочие места и малорентабельное для семей, чья жизнь зависела от обработки земли. Критика социального неравенства была частью дискурса религиозных организаций, и для режима, который провозгласил себя защитником социальной справедливости, это было тяжелым испытанием. Некоторые священники стали носителями гражданских ценностей, необходимых для возвращения демократии. В период с 1965 по 1975 гг. конфликты между духовенством и режимом были обычным явлением. В Саморе даже была создана тюрьма для священников, а папе Римскому не дозволили приехать в Сантьяго де Компостелу, один из важнейших христианских паломнических центров. Хуже того: в феврале 1974 г. начальник полиции Бильбао поместил епископа Антонио Аньовероса под домашний арест за проповедь в поддержку «справедливой свободы» баскского народа и политической системы, которая уважала бы его «особую идентичность». В ожидании приказа из Мадрида об отправлении священнослужителя в изгнание правительство подготовило письмо о разрыве отношений с Ватиканом. Отказ от этого акта произошел, когда кардинал Тарранкон ознакомил Франко с письмом об отлучении от Церкви, предписанном папой Павлом VI для него и всего его кабинета в случае изгнания Аньовероса [Montero-Pedrera, Sánchez Sánchez, 2021], и это стало последней каплей в напряженных отношениях между Ватиканом и Испанией.
После смерти Франко в 1976 г. и с восшествием на престол короля Хуана Карлоса I Церковь способствует процессу демократизации, делая политические заявления. На коронации королю со стороны кардинала было предложено стать королем всех испанцев без исключений и дискриминации, в память о жертвах гражданской войны, разделившей народ. Архиепископ Сантьяго-де-Компостела (впоследствии кардинал) Анхель Сукия в июле 1976 г., проводя службу в честь ап. Иакова (святого покровителя города и страны), просит об амнистии для политических заключенных. В 1977 г., в разгар дебатов о том, каким должен был быть политический переходный период, епископы опубликовали еще один важный документ под названием «Руководство по политическому участию». Его основная мысль сводится к тому, что Церковь не претендует ни на сохранение, ни на получение каких-либо политических полномочий, она не хочет отождествлять себя ни с одной партией, но требует взамен абсолютной независимости, чтобы проповедовать свое учение, чтобы христиане могли взять на себя свои политические обязательства в пользу прогресса, свободы, мира [Sebastián Aguilar, 2007, 82].
На пороге демократического перехода (1970-1975) Католическая Церковь в Испании хотела и смогла найти свое место в качестве посредника и примирителя. Она продемонстрировала диалогическую позицию, которая в тот период казалась компромиссной и гибкой, а сегодня представляется двусмысленной и сбивающей исследователей с толку, когда они пытаются более или менее однозначно оценить ее роль в государственно-правовых процессах. В переходный период Церковь стремилась занять свое место в многоконфессиональном, демократическом, плюралистическом и секуляризованном обществе и оставаться этическим и религиозным ориентиром, наиболее компетентным в вопросах гуманности, ценности и смыслов. Следует признать важную роль испанского епископата в достижении общественного примирения, но при этом необходимо трезво оценивать причины и содержание этой активной деятельности.
Необходимо отметить и другую тенденцию в развитии отношений Католической Церкви и государства. Неоспоримо, что сегодня этот социальный институт, отвечающий за сохранение традиционных религиозных ценностей в обществе, терпит серьезный кризис в связи с практически полной утратой влияния на общество. Западная цивилизация, чьим основополагающим началом было христианство, сегодня, вынув этот стержень из своего основания, тщетно пытается заменить его либеральными ценностями. Справедливости ради нужно отметить, что во многом постулаты католицизма устарели и требовали преобразования, о чем говорилось и в упоминаемой пастырской Конституции «Gaudium et spes» 1965 г. (Gaudium et spes, 1965). В тот момент это был прорывной документ, в котором Католическая Церковь отказывалась от своей политической роли. Но сегодня становится ясным, что главный соблазн католической иерархии все еще состоит в том, чтобы попытаться вступить в союз с политической властью, как это нередко бывало в мировой истории, с целью обеспечить свое влияние на государственно-правовой курс стран и народов; но влияние, которое она оказывает на мир, с другой стороны, становится все меньше и меньше, главным образом из-за застоя и даже регресса ее организационной и дисциплинарной структуры [Pastor Escobar, Guadalupe Sánchez, 2000]. С другой стороны, невозможно принять позицию о полной и безоговорочной поддержке перехода к демократии со стороны Католической Церкви в Испании, поскольку это автоматически означало разрешение гражданских разводов, абортов, нетрадиционных отношений, которые стали проникать в сферу семьи. Диктатуры, заключая пакты с Ватиканом, всегда разворачивали политику защиты «истинных», традиционных ценностей, что было одним из механизмов легитимации для большинства верующих католиков, еще составляющих значительную часть общества. Испанское общество, очевидно, ощущало себя травмированным гражданской войной и скованным морально-нравственными принципами, которые не пересматривались со времен Средневековья, несмотря на то что общество уже ощутило свободу от чрезмерного религиозного давления в период Второй республики. Все это свидетельствует о кризисе, который сегодня определяет взаимоотношения между Католической Церковью и государством в Испании.
Заключение
В результате постепенной эволюции отношений между государством и Католической Церковью в Испании в период франкистской диктатуры выявляются два основных этапа. На протяжении первого этапа преобладающей движущей силой можно считать сотрудничество и взаимодействие Церкви и режима, оправдываемое цивилизационными смыслами, борьбой добра и зла в мировом масштабе. На втором этапе преобладающим становится кризис и внутренний раскол в недрах испанской Церкви, связанный как с внешними факторами (смена политического курса Ватикана), так и с внутренними (присоединение молодых католических священников к социальным акциям и движениям). Это значительно повлияло на самоидентификацию Церкви внутри государственно-политической системы Испании. Если в первые десятилетия правления Ф. Франко основными институтами легитимации режима были Церковь и Фаланга, то затем их цели и способы взаимодействия с обществом резко расходятся. Глубокие социальные преобразования заставляют эти два института экспериментировать и приспосабливаться, чтобы сохранить свое влияние. Фаланга, несмотря на частичное обновление своих постулатов и попытки сблизиться с обществом, не смогла расширить социальную поддержку и избавиться от своей идентификации с наиболее реакционными и жестокими чертами диктатуры. Что касается Церкви, то она определяла картину мира испанского общества в течение столетий, и взаимоотношения между ними были разными, поэтому так просто она не могла лишиться социальной поддержки, несмотря на ослабление своего влияния. Церковь порвала с доктриной национал-католицизма, одной из отличительных черт режима, которая скорее сковывала ее, несмотря на декларируемую защиту со стороны государства. Она постепенно отделилась от политического участия, и даже часть духовенства в конечном итоге выступила против франкистской диктатуры.
Охлаждение наблюдалось не только со стороны Церкви, но и со стороны государства. Ф. Франко в целом не был религиозным человеком, но союз с религиозными организациями предоставлял больше выгод. Поэтому иерархи принимали участие в государственных праздниках, располагаясь на главных местах, что представляло собой невербальное коммуникативное сообщение, указывающее на роль Церкви в государственных делах. В дальнейшем, когда наступил период постепенного взаимного охлаждения, священнослужителей высшего ранга перестали приглашать на некоторые мероприятия либо отводили им второстепенные места, и это тоже представляло собой послание обществу.
Таким образом, в символическом построении франкизма большое значение уделялось исторической памяти как основе идентификации режима, в которой ключевую роль играла Католическая Церковь. Религиозный компонент имел решающее значение после начала гражданской войны, поскольку он служил политическому мятежу оправданием, в котором тот нуждался, чтобы избежать тиражирования образа нарушения законно установленного порядка. Благодаря поддержке Церкви военному перевороту был придан смысл религиозного «крестового похода». Во многом именно позиция Церкви в период позднего франкизма и особенно в переходный период от авторитаризма к демократии способствовала тому, чтобы большая часть верующих, которые по своей природе более консервативны, являются хранителями социальных ценностей, восприняли необходимость смены политического режима без эксцессов. Вероятно, это было одним из тех обстоятельств, которые способствовали практически бескровному переходу от одного политико-правового режима к другому, даже ценой удаления Католической Церкви из политической жизни. Первым и решающим вкладом Церкви в эти годы было принятие перехода к демократии в качестве наиболее подходящего способа организации политической жизни страны, преодоление последствий гражданской войны, скрывающихся в глубинах сознания испанского общества. Это решение позволило смягчить экстремистские устремления некоторых крайне правых католиков, которым демократия в то время казалась формой жизни, несовместимой с традиционной религиозностью.
С юридической точки зрения можно отметить важность конкордатов как источников права в системе канонического права в католических государствах. Конкордаты обладают двойной значимостью: с одной стороны, это инструмент взаимодействия государства и Церкви, с другой, — механизм установления правового режима Церкви на определенной территории [Rodriguez Blanco, 2020]. Другое дело, что Конкордат 1953 г. отличало отсутствие юридического реализма, что являлось одним из его наиболее заметных недостатков, — он «опоздал на двадцать лет» [Diaz Moreno, 1979, 285]. В современной Испании соглашения продолжают действовать, и они сыграли определенную роль при переходе к демократическому режиму. Они стали одной из основ перехода к свободе вероисповедания в результате отказа Католической Церкви политически регулировать религиозные вопросы в качестве официальной религии. Это стало образцом регулирования религиозной свободы для остальных конфессий. Договорная система, сложившаяся в течение столетий, служит практикой правовых отношений между государством и Церковью по вопросам, представляющим общий интерес. Эти документы носят международно-правовой характер, а потому признаются испанскими судами в рамках правоприменительной деятельности. Несколько раз суды сталкивались с противоречиями норм соглашений и внутренних норм. В этом случае приоритет отдавался испанскому национальному праву, что продемонстрировало, что в современной юридической практике нормы церковного права могут не исполняться [García García, 2022], хотя они до сих пор имеют большое значение в вопросах регулирования семейно-брачных отношений для людей, исповедующих католицизм.
Похоже, что в испанской историографии нет единого мнения о роли, которую сыграла Католическая Церковь во время становления, расцвета и кризиса диктатуры Ф. Франко, а также переходного периода от авторитаризма к демократии в Испании. Мы сталкиваемся с противоположными тенденциями: поддержка и противоречия, системные связи и кризис, легитимация и протесты. Связано это было и с внутренними, и внешними политическими процессами в Испании и мире, в которых Католическая Церковь принимала участие как суверенный и значимый актор.