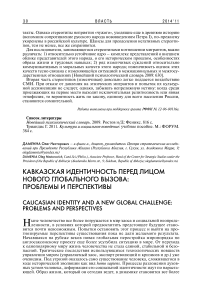Кавказская идентичность перед лицом нового глобального вызова: проблемы и перспективы
Бесплатный доступ
Участники поставили и обсудили целый ряд вопросов: о гражданской идентичности в научно-политическом дискурсе и массовых общественных представлениях, о состязательности или взаимодополняемости гражданской и этнической идентичностей, характере этих идентичностей, согласии и рассогласованности в ориентирах этнополитического развития в регионах и, наконец, о том, насколько гражданская идентификация снимает межэтнические предубеждения. Докладчики отстаивали позицию, что общество самостоятельно способно выработать способы защиты от дестабилизирующего информационного воздействия. Иммунитетом от такого воздействия является культура и система ее постоянного социального воспроизводства. Опасности разрыва целостности духовно-культурного пространства противостоят традиционные российские ценности. Докладчики предприняли попытку обозначить пути управляющего воздействия на идентификационные процессы регионального сообщества в контексте укрепления общероссийской национальной идентичности: был предложен переход от линейного мышления к нелинейному, к «мышлению, ориентированному на будущее», способному обеспечить несиловое воздействие на идентификационные процессы. Было аргументировано положение о миссии федеральных университетов в формировании и укреплении общероссийской идентичности. В поиске путей укрепления российской идентичности по-новому зазвучало понятие креативной идентичности, обязывающей индивида действовать социально, вкладывать социальный смысл в поведение других и выводить осознание идентичности на уровень добровольности принятия социально-ценностных ориентаций. Особый интерес был направлен на региональное измерение поставленной на конференции проблемы. Культурно-цивилизационные процессы, протекающие в регионах в последние столетия, превратили Кавказ в открытое пространство, в арену выяснения взаимоотношения различных геополитических сил. Противостоять угрозе развития военного сценария с катастрофическими последствиями в исторической судьбе многих народов кавказского сообщества можно лишь активно взаимодействуя с другими культурами, прежде всего с русской. На базе межкультурного взаимодействия, диалога и соразвития интегрирование евразийской территории может стать успешным проектом. Учет исторического опыта культурного взаимовлияния народов Северного Кавказа и историческая память помогутт сформировать социокультурное ядро в структуре социально-политических идентификаций. Это было подтверждено результатами исследований, выявивших, что национально-патриотические ориентации в политическом сознании россиян занимают значимые позиции, а россияне, включая молодежь, - преимущественно государственники. Современные ценности не вытесняют традиционные, а встраиваются в них, давая путь новым интегрированным гибридным ценностям. Поэтому эффективное регулирование скорее должно основываться на маневрировании между двумя этими трендами - в этом случае возможна подлинная гражданская консолидация.
Российская идентичность, национальная безопасность, информационное общество, культурно-цивилизационные процессы, северный кавказ, межкультурное взаимодействие, историческая память, диалог, соразвитие, патриотизм, гражданская консолидация, этническая идентичность, региональная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167262
IDR: 170167262
Текст научной статьи Кавказская идентичность перед лицом нового глобального вызова: проблемы и перспективы
Ныне человечество все более погружается в мир хаоса и социальной неопределенности, в условиях которой предвосхитить предстоящее будущее становится почти невозможным. Попытки остановить этот процесс и выйти на прогнозируемые перспективы существования пока не дали желаемого результата. Начавшаяся на рубеже веков новая глобальная перестройка миропорядка по англосаксонскому проекту еще более усугубила ситуацию в мире. От перехода к однополярному миру жизнь человечества не стала единой, стабильной и безопасной. Трагические последствия использующихся технологических новшеств управления миром (управляемый хаос, экспорт революций и кризисов и др.) уже очевидны. Под угрозой оказалось само существование человека, сложившегося в ходе исторической эволюции как вид homo sapiens. Процессы разложения духовных устоев человека, деформация его социальной идентичности идут по нарастающей. Образ жизни, который он сегодня ведет, в динамике становится все более асоциальным. Человек сегодня растерян, все меньше понимает, кто он такой и какую миссию призван выполнять в жизни Вселенной. В этих условиях перед каждой культурой, в т.ч. и кавказской, остро встает вопрос, как противостоять этой угрозе и сохранить себя.
Своеобразным альтернативным ответом на этот глобальный вызов явилось наметившееся в последнее время движение стран и народов к объединению по региональному принципу. В этом контексте идея евразийской интеграции вновь стала привлекательной. Она стала предметом острых и заинтересованных дискуссий в экспертных кругах и элитных сообществах не только России. На евразийскую интеграцию все большее внимание стал обращать и политический истеблишмент. Наметились перспективы взаимовыгодного сотрудничества между отдельными странами региона в различных сферах жизни.
Успех, равно как и неуспех, таких региональных геополитических проектов во многом зависит не только, быть может, и не столько от воли и желания правящих элитных структур, сколько от общей культурной составляющей. Именно культурная составляющая является той субстанцией, на базе которой интегрирование разных стран и народов может превратиться в дееспособный и перспективный проект. Лишь при наличии у разных стран общей цели, модели жизнеустройства и системы ценностной ориентации их объединение может стать реальной силой развития каждого из них в отдельности.
Успешной евразийская интеграция может осуществиться, повторяюсь, лишь при учете культурного своеобразия каждой территории. Интегрирование представленных здесь стран и народов в некое единое и слаженно функционирующее сообщество требует глубокого учета как своеобразия каждого из них в отдельности, так и присущих им общих ценностей.
Евразийское пространство, как известно, является сложной территорией, характеризующейся большим социокультурным разнообразием. Именно в культурном разнообразии Евразии и состоит ее особенность.
Однако культурное разнообразие присуще не только евразийской территории. Оно присуще и другим регионам, например, Европе, Африке или Южной Америке. Однако при всем разнообразии культур, в частности европейских народов, равно как африканских и южноамериканских, у них есть нечто общее, что их объединяет и позволяет каждой культуре в отдельности относить себя к европейской культуре и идентифицировать себя через нее. Европейские народы объединяют общая цель, модель социального жизнеустройства, система ценностной ориентации и др. Именно общность базовых ценностей позволяет европейским народам объединяться в различные политические, военные, экономические и др. блоки, альянсы, ассоциации.
Различие культур в Евразийском регионе гораздо глубже, чем в Европе, Африке или Южной Америке. Достаточно в этой связи отметить, что представленные здесь культуры не осознают себя в форме некой евразийской идентичности. Правда, в понимании русской культуры существует точка зрения, рассматривающая ее как евразийскую, но эта точка зрения не стала еще общепризнанной в науке. В своей стратегической ценностной ориентации русская культура как бы колеблется между Западом и Востоком.
Между тем в евразийском интеграционном проекте речь идет и о таких культурных генерациях (китайская, тюркская и др.), которые относят себя лишь к восточной культуре, придерживаясь при этом разных моделей социальной организации и систем ценностной ориентации.
Особняком в этом ракурсе стоит кавказская культура, которая не относит себя ни к западной, ни к восточной культуре. Она не относит себя также и к русской культуре, с которой живет в одном геополитическом пространстве уже не одно столетие. Культурные изменения автоматически не следуют изменениям в политической конъюнктуре.
При всем различии культур евразийской территории можно и нужно находить присущее им всем нечто общее, на базе которого можно реализовать те или иные интеграционные проекты.
Угроза безопасности жизни может стать и часто становится фактором, объединяющим разные культуры и народы независимо от степени различия между ними. Сколько-нибудь эффективно противостоять угрозе, о которой речь шла выше, можно лишь объединенными усилиями стран и народов Евразийского региона. Это хорошо осознается сегодня и среди народов кавказского сообщества. Важно только, чтобы понимание необходимости кооперирования усилий, направленных на обеспечение безопасности, выражалось в реализуемых совместных политических и др. проектах.
Ни одна культура не стремится к самоизоляции. Культура нуждается не только в самой себе, но и в других культурах. Потребность в другой культуре, отличающейся от нее, зашифрована в любой отдельной культуре. Каждая отдельная культура может успешно функционировать лишь в контакте с другими аналогичными образованиями. Через них она развивает свой потенциал и делает себя более дееспособной. Именно через них она может осознавать себя как таковую, критически оценивать свое состояние и намечать пути дальнейшего саморазвития. Различие между культурами может служить фактором как взаимоотчуждения, так и вза-имообогащения. Как используется этот фактор, во многом зависит от ценностной ориентации элитных слоев культуры.
Когда речь идет о геополитическом проекте евразийской интеграции важно учитывать уникальный опыт русской культуры, существенно отличающийся от англосаксонского.
Своеобразие русской культуры формировалось в процессе освоения определенной природной среды. Само освоение (адаптация и преобразование) природной среды необходимо предполагало установление ее территориальных границ.
Территория, где формировалась русская культура, была равнинной. «Степь да степь кругом…» – так воспринималась эта территория в сознании русского. Но степь представала перед ним не только однообразной и бескрайней, но и некой стихийной и таинственной силой, таившей в себе немало угроз его жизни. Эти особенности (равнинность, однообразность, безграничность, стихийность, таинственность и др.) территории сказывались на сознании русских.
Тяготение к путешествию, свободе, раздолью, простору, открытости, простоте, расширению своего пространства и другие особенности их характера во многом являются превращенной формой выражения тех природных условий, которые они осваивали. Н.А. Бердяев писал: «Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта» [Бердяев 1990: 8]. «Русский мир жил и рос в пространственных просторах, и сам тяготел к просторной нестесненности», – вторил Н. Бердяеву другой русский философ И. Ильин [Ильин 2007: 30].
Эти особенности русской культуры прослеживаются не только на уровне умозрительных рассуждений. Тяготение русской культуры к расширению своего пространства достаточно очевидно. «Русская культура распространяется, – пишет в этой связи академик Д.С. Лихачев, – на огромную территорию… Семья, переезжающая из Ленинграда в Хабаровск или Иркутск, не попадает в иную культурную среду. Среда остается того же типа» [Лихачев 1990: 3].
Территориальное расширение характерно для многих культур, особенно цивилизаций, и происходило оно не произвольно, не бессознательно, а в форме вполне осознанного коллективного действия ее носителей. К таким действиям страны и народы часто прибегали с целью решения ресурсных проблем. Осваивая новые территории, европейцы, например, начинали активно пользоваться ресурсами и благами новых земель, оформляя их по своим стандартам и вкусам. В наращивании благосостояния своей жизни они видели смысл присвоения чужих территорий.
Тяга к материальным ресурсам, присущая европейцам, в русской культуре не прослеживается. Расширение ее пространства происходило не вследствие каких-то целенаправленных, рационально осмысливаемых действий массы людей; оно не было направлено на присвоение русскими чужих ресурсов и благ, им не доставшихся. Освоение новых территорий не приводило к заметному улучшению их жизни. Через ресурсный фактор трудно понять и рационально объяснить исходную мотивацию, которая побуждала русских к освоению новых территорий. По существу, они даже не осваивали новые территории и не оформляли их на свой лад, как это делали европейцы. Зачастую расширение русской культуры происходило как следствие бегства массы людей (казачества) от жестокого насилия со стороны институтов власти.
Расширение русской культуры, особенно в северо-восточном направлении, происходило как бы в силу отсутствия границ («безграничности пространства»). Не через книжность открывали русские новые горизонты; они открывали их путешествуя, странствуя по земной поверхности. Их отношение к природе – духовное, эстетическое, сентиментальное, романтическое, образное, созерцательное. «Созерцание вносилось и во внутреннюю культуру – в веру, в молитву, в искусство, в науку, в философию» [Ильин 2007: 29].
Пространственное расширение русской культуры происходило как бы естественно. Оно не сопровождалось какими-либо особыми социально-политическими потрясениями, столкновениями и разрушениями. Расширяясь, русская культура не разрушала другие культуры, встречавшиеся на ее пути; она не мешала им жить по своим правилам и нормам. Вследствие этого здесь, на северо-восточных просторах евразийского пространства, был накоплен другой социокультурный опыт, отличавшийся от «плавильного котла» Запада. Формирование новой социокультурной территории происходило через сохранение, естественное сближение проживавших здесь различных этнических общин и групп и обновление уклада их жизни. Впрочем, этот опыт, видимо, играл не последнюю роль при федерировании российской территории по этническому признаку.
Лишь при расширении своего геополитического пространства в южном направлении – в Средней Азии и особенно на Кавказе – Россия столкнулась с серьезным сопротивлением. При всех коллизиях и трагических последствиях этого столкновения Россия и на Кавказе не пошла по пути «плавильного котла». Под влиянием русской культуры народам кавказского сообщества все же удалось, в отличие от аборигенов Америки, выжить и вступить в новую стадию социального развития и самопознания.
Уместно в этой связи отметить действия России на Кавказе в недавнем прошлом. Именно Россия в 2008 г. предотвратила физическое истребление народов Южной Осетии и Абхазии. Свое уважительное отношение к нерусским народам Россия продемонстрировала вновь в текущем году в отношении к крымским татарам и другим этническим общинам, проживающим на полуострове.
В культурном разнообразии евразийского пространства Кавказ является одним из регионов, заметно выделяющимся своим природно-климатическим и социокультурным своеобразием.
Исторически сложившаяся в регионе концентрация этнического разнообразия часто воспринималась и воспринимается внешним миром еще сегодня как некий конгломерат различных трудно совместимых, а порой враждебных друг другу этнокультурных образований, лишенных внутреннего единства. Само понятие «кавказская культура» используется в литературе, как правило, в собирательном смысле слова.
Однако при других подходах (ценностном, системном и др.) можно заметить и то общее, на базе чего каждый этнос формировался и функционировал. Территориальная раздельность этнических общностей не означала их полную изолированность друг от друга. При всех трудностях горных условий они всегда поддерживали между собой определенные связи. Эти взаимосвязи играли, видимо, не последнюю роль при формировании единой модели социальной организации этнических общностей на Кавказе, следы которой наблюдаются и в наше время.
О существовании в прошлом на Кавказе единого культурного (ценностносмыслового) пространства свидетельствует и сама логика, по которой различные этносы могли сосуществовать и взаимодействовать. Она предполагала соответствие социального порядка, устанавливавшегося каждым этносом для себя, нормам жизни, принятым в непосредственном окружении. Это значит, в основе этниче- ского разнообразия лежала единая система социальной организации и ценностной ориентации. Различия между этносами не мешали им сосуществовать и взаимодействовать в интересах каждого из них в отдельности.
Тем самым в прошлом на Кавказе был накоплен уникальный культурноисторический опыт: на сравнительно небольшом географическом пространстве сконцентрировалось большое количество различных, хотя и небольших по численности этнических общностей, которые в процессе освоения горной территории и взаимодействия друг с другом образовали единый суперэтнос (мегаобщность). При этом этносы не смешивались, не растворялись друг в друге, как это происходило на равнине. Сохраняя себя, каждый из них способствовал сохранению этнического разнообразия Кавказа. Этот опыт может быть использован сегодня, когда речь идет о проекте евразийской интеграции.
Культурно-цивилизационные процессы, начавшиеся в регионе в последние столетия и ныне продолжающиеся с нарастающим ускорением, превратили Кавказ в открытое пространство, в арену выяснения взаимоотношений различных геополитических сил. События часто развиваются здесь и по военному сценарию с катастрофическими последствиями для исторической судьбы многих народов кавказского сообщества.
Противостоять этой угрозе можно лишь активно взаимодействуя с другими культурами, прежде всего с русской. Как раз на базе межкультурного взаимодействия, диалога и соразвития интегрирование евразийской территории может стать успешным проектом.
Список литературы Кавказская идентичность перед лицом нового глобального вызова: проблемы и перспективы
- Бердяев Н.А. 1990. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 224 с.
- Ильин И. 2007. Русская идея.//Русский журнал. № 7.
- Лихачев Д.С. 1990. О национальном характере русских.//Вопросы философии. № 4. С. 3-6.