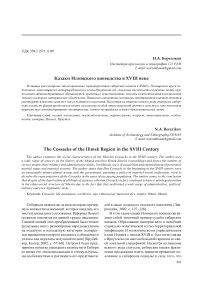Казаки Илимского воеводства в XVIII веке
Автор: Березиков Н.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XXII, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены этносоциальные характеристики сибирских казаков в XVIIIв. На широком круге источников, относящихся к истории Илимского уезда Иркутской губ, показана численность служилых людей, круг их военно-административных обязанностей, средства к существованию, способы комплектования и восполнения личного состава и материальное обеспечение. Выявлены конкретные механизмы предпринятой властью попытки растворить илимских казаков в массе податного населения. Несмотря на лишение всякого рода статусов, сибирские казаки по факту продолжали иметь положение особой этносоциальной группы в силу того, что выполняли широкий круг административно -политических, военно-полицейских и даже дипломатических задач.
Казаки, казачество, жизнеобеспечение, мировоззрение, возраст, этносоциальные особенности, империя, илимск, иркутск
Короткий адрес: https://sciup.org/14522425
IDR: 14522425 | УДК: 339.1
Текст научной статьи Казаки Илимского воеводства в XVIII веке
Сибирское казачество за свою историю претерпело множество изменений, которые касались его институционального положения. Реформы Петра I оставили отпечаток на данной группе населения. Главной линией этих преобразований было четкое разделение всего разнообразия народонаселения на податную и неподатную категории (конкретное проявление которого сводилось к обязанности уплаты или неуплаты подушной подати) [Брубейкер, Купер, 2002, с. 67–68]. Петром I была предпринята попытка упразднить казачество в Сибири со всеми его этносоциальными и этнокультурными особенностями и растворить его представите- лей в массе податного сельского населения [Лавринович, 2002, с. 127–128].
В этом плане казаки Илимского воеводства являют собой типичный пример судьбы сибирских казаков. Образование империи вело к всеобщей социально-политической и этно-территориальной унификации. В экономическом и управленческом плане Илимск с начала XVIII в. был тесно связан с Иркутском; он имел небольшой гарнизон со своей локальной спецификой. Несмотря на лишение всякого рода статусов, сибирские казаки фактически продолжали иметь привилегированное положение в сибирском социуме в силу того, что выполняли широкий круг административно-политических, военно-полицейских и даже дипломатических задач [Быконя, 2007, с. 18–19].
Так, илимские казаки при необходимости вовлекались в военные операции по расширению восточных рубежей России в качестве руководителей среднего звена и рядовых. Кроме того, они имели отношение к непосредственному управлению низшими административно-территориальными единицами региона: осуществляли прием хлебных и ясачных пошлин, в случае острой потребности самостоятельно выращивали зерновые культуры, охотились за зверем, возводили речные судна и выполняли задачи по их экспедиции, восстанавливали дороги, искали беглецов, сопровождали заключенных, занимались различными промыслами, выполняли конфиденциальные поручения местных военных, а также занимались охраной государственных стратегических объектов.
Однако попытки властей унифицировать сибирское казачество и слить его с другими социальными группами не имели фактического успеха. Формально обладая тем или иным статусом городского или сельского населения, казаки реально не были подобны другим слоям сибирского общества. В XVIII в. казаки Илимского воеводства продолжали приобретать статус «казака» как по личному выбору, так и по праву рождения, они не платили подушных сборов, но находились на службе бессрочно, не обладая при этом особыми привилегиями. Хотя они не имели формальной воинской структуры с выборным казачьим предводителем, дружиной и уставом, тем не менее казаки оставались в полной мере организационно выстроенным слоем сибирского социума. Они «открывали» новые территории, описывая ранее не известные этносы, вносили земли в кадастр, проводили испытания в аграрной области, брали пробы и оценивали урожай зерновых, сопровождали Великую Северную экспедицию. Несмотря на неумолимую унификацию, сопровождавшую сибирских казаков весь XVIII в., они сумели сохранить свои самобытные черты и мировоззрение, сложившиеся в течение предыдущего столетия. Перемены в их социально-политическом и этнокультурном облике, в том числе способах жизнеобеспечения, были также значительны [Плотникова, 2014, с. 38–39].
Первое существенное преобразование, коснувшееся казаков Илимского воеводства в послепетровскую эпоху было связано с установлением верхней границы штатной численности. Вводимый новый штат казаков существенно сокращал их численность и даже ликвидировал отдельные группы. Так, в архиве разрядного стола Иркутской губ. в 1726 г. сделали полный перечень служилых людей
Илимского уезда по старому штату. Всего он насчитывал 162 человека: 1 дворянина, 14 детей боярских, 16 пятидесятников, десятников, 10 конных казаков, 118 пеших казаков, два мельника и палач. По новому штату конные казаки, пятидесятники и десятники исключались (РГАДА. Ф. 494. Оп. 2. Ч. 2. Д. Л. 95) [Описание, 1988, с. 113–115].
Большая часть илимских казаков (78 человек) в 1730-х гг. занимались охраной объектов и сопровождением по Сибири приезжих чиновников. Расширение этого круга обязанностей у илимских казаков связано с Великой Северной экспедицией, а именно ее Камчатской частью. Для обеспечения деятельности академиков Сенат выпустил приказ в 1738 г. о создании драгунского полка и пехотного батальона из числа местного служилого населения, их родственников и «охочих» людей. Уже в феврале 1738 г. драгуны и солдаты общей численностью 25 человек, набранные из действующих илимских казаков, отправились с фурштатом в Иркутск в драгунский полк и пехотный батальон (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1231. Л. 4-14).
Именно с этого времени началась, по-видимо-му, штатная недостача казаков в Илимском уезде. На 1745 г. всего было 113 человек (36 из них приписаны к Братскому острогу, 77 – к Илимскому). Для восполнения штатной численности был проведен смотр казачьих детей в возрастном диапазоне между 13 и 25 годами. По итогам смотра новобранцы обязаны были явиться на службу с собственным ружьем, саблей (или палашом) и конем. Численная недостача казаков в Илимском воеводстве возникала постоянно на протяжении всего XVIII в. и была, вероятно, связана с отправкой казаков на северо-восточные окраины Сибири (РГАДА. Ф. 494. Оп. 2. Ч. 2. Д. 440. Л. 120; РГАДА. Ф. 494. Оп. 2. Ч. 2. Д. 468. Л. 73, 108; РГАДА. Ф. 494. Оп. 2. Ч. 2. Д. 532. Л. 26-29). Значительная часть уезжала в связи с нуждами Камчатской экспедиции.
По данным 1753 г. на службе состояло 5 детей боярских и 119 казаков. В самом Илимском остроге служило 8 человек (счетчики, городничий, сторожа, пожарный), охраной винокурен занималось 12 казаков, в караулах было 68 казаков. Аналогичную картину представляют и данные 1754 г. (подробнее см.: РГАДА. Ф. 494. Оп. 2. Ч. 2. 654. Л. 161–162).
В перечне казаков 1755 г. упоминаются казачьи старшины (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2001. Л. 51–52; РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2038. Л. 40–47). В 1756 г. 19 илимских казаков из списочного состава были отправлены в Охотск в дополнении к тем, кто уехал туда в 1750 г. Тогда же 63 казаков направили в даурские острожки на китайскую границу в связи с возобновлением военной активности соседей (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1.
Ч. 2. Д. 765. Л. 142-144). Было велено отобрать «добрых» казаков «с ружьем» и амуницией.
В связи с поступавшими с Амура «немирными... несходными с трактатом известиями» Иркутское губернское правление требовало у илимских воевод отчетов о боеспособности подведомственных им казаков и уровня их жизнеобеспечения. Например, учет 1756 г. касался 120 казаков (РГА-ДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. 2467. Л. 7–8. Л. 160–170). 7 человек были в возрасте 15–18 лет, 7 – 19–20 лет, 45 – 21–30 лет, 26 – 31–40 лет, 26 – 41–50 лет, 7 – 51–60 лет, 2 – старше 60 лет. Из них 39 человек находились на службе 1–5 лет, 28 – 6–15 лет, 33 – 16–25 лет, 17 – 26–35 лет и 3 – 36–40 лет. Среди казаков 21 умели читать и писать (20 %), а каждый из остальных 99 человек ответил, что «в грамоте не умеет» (80 %). 82 человека были женатыми или вдовцами, 38 – холостыми. 58 казаков (менее 50 %) имели оружие: 14 винтовок, 12 фузей, 52 палаша, 1 шпага и 1 сабля; остальные не имели никакого оружия. Известен также сходный отчет на 1761 г. (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2549. Л. 123-137).
Помимо формального учета списочного состава казаков был проведено обследование их здоровья. Всего воеводой было выявлено 8 казаков, которых отправили на дополнительный осмотр в Иркутск (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 765. Л. 115-117). По его результатам было принято решение оставить на службе пожилых казаков (троим из которых было 55, 62 и 67 лет соответственно): «Еще несколько времени службу при городе безнужно исправлять могут, затем и нет их желания к отставке» (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 764. Л. 115-117).
С середины 1760-х гг., с деятельности нового иркутского губернатора А.И. Бриля, положение казаков стало меняться в сторону унификации деятельности с замещением их должностей штатскими чиновниками. Ежегодно увольнялись пожилые казаки и на их место не назначались новые. Единоличное право увольнения получила Илимская воеводская канцелярия (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1260. Л. 18-21), в 1772 г. были объединены в одну штатную единицу все казаки Иркутской губ., а их пашенные угодья заменены на жалованье в виде муки и круп (РГАДА. Ф. 494. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1301. Л. 78-91). Ушло из официального словоупотребления «пятидесятник казачий» (их стали называть «урядниками») (РГАДА. Ф. 1424. Оп. 1. Д. 49. Л. 2, 5).
Материальное положение казаков Илимского (с 1774 г. – Киренского) уезда не возвышало их среди прочего населения Иркутской губ. [Моло-дин, 2007, с. 100–101]. В частности, за ними числились большие долги по подушной подати, которые не могли быть покрыты с помощью действий приставов. Известно прошение местных властей 1780 г. о «прощении» недоимок казаков. Однако Сенат решился на это только в 1796 г., полностью освободив от подушной подати казаков Иркутской губ. [Шахеров, 2001, с. 96].
Таким образом, илимские казаки представляют собой типичный пример судьбы служилых людей, именовавшихся в XVII в. казаками: в век империи они трансформировались во вспомогательные отряды, приобщенные к административно-полицейским силам.
Список литературы Казаки Илимского воеводства в XVIII веке
- Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами «идентичности»//Ab Imperio. -2002. -№ 3. -С. 61-115.
- Быконя Г.Ф. Казачество и другое служебное население Восточной Сибири в XVIII -начале XIX века: демографо-сословный аспект. -Красноярск: Красноярск. гос. пед. ун-т, 2007. -416 с.
- Лавринович М. Создание социальных основ империи в XVIII веке: законодательные практики в отношении городского населения России и их западноевропейские источники//Ab Imperio. -2002. -№ 3. -С. 117-136.
- Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога//Наука из первых рук. -2007. -№ 4 (16). -С. 100-101.
- Описание Иркутского наместничества 1792 г. -Новосибирск: Наука, 1988. -254 с.
- Плотникова М.М. Формирование коллективной идентичности в городах Восточной Сибири в конце XVIII -начале XIX в. -Иркутск: Иркутск. гос. ун-т, 2014. -191 с.
- Шахеров В.П. Города Восточной Сибири в XVIII -первой половине XIX в. Очерки социально-экономической и культурной жизни. -Иркутск: Оттиск, 2001. -264 с.