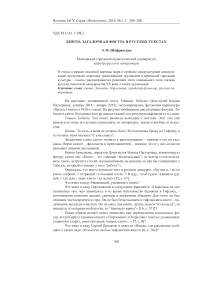Кинто: загадочная фигура в русских текстах
Автор: Шафранская Элеонора Федоровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье в рамках языковой картины мира и проблем межкультурной коммуникации представлен персонаж традиционной грузинской и армянской городской культуры – кинто; рассматривается рецепция этого социального типа глазами русских писателей, мемуаристов ХХ века, а также художников.
Кинто, зданевич, пиросмани, городской фольклор, русская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/146122111
IDR: 146122111 | УДК: 821.161.1:398.2
Текст научной статьи Кинто: загадочная фигура в русских текстах
На выставке, посвященной поэту Тициану Табидзе (Дом-музей Бориса Пастернака, декабрь 2014 – январь 2015), экспонировалась фотокопия карикатуры «Протест кинто» (1930-х годов). На рисунке изображены две спорящие фигуры: Та-бидзе и кинто. В подписи (на грузинском языке) под рисунком выражена суть спора:
Тициан Табидзе : Тип кинто является выходцем с востока. Этот тип уже вымер и поэтому его должны упразднить из литературы, театра и вообще из искусства.
Кинто : Ты есть, а меня не должно быть? Я столетиями брожу по Тифлису, а ты хочешь меня выгнать? С ума сошел?
Загадочное слово кинто позвало к расследованию – прежде я его не слышала. Опрос коллег – филологов и преподавателей – показал, что и у них слово не вызывает никаких ассоциаций.
Ирина Ерисанова, директор Дома-музея Бориса Пастернака, комментирует фигуру кинто так: «Кинто – это главный “встречальщик”, он всегда готов подставить плечо, встретить гостей, жизнелюбивый; на рисунке он как бы соперничает с Табидзе, который отнимает у него “работу”».
Оказалось, что кинто довольно част в русском дискурсе: «Грузин я, / но не кинто озорной, // острящий / и пьющий после. // Я жду, / чтоб гудки / взревели зурной, // где шли / лишь кинто / да ослик» [12, с. 67].
Что имел в виду Маяковский, упоминая о кинто?
Что имел в виду Паустовский в следующем фрагменте: «Пиросман не мог заниматься тем, чем занималось в то время большинство бедняков в Тифлисе, – ничтожными темными делами, удачным и неудачным обманом. Для этого он был слишком чистосердечен и горд. Он не был бездельником и тифлисским кинто – полунищим, веселым и наглым. Он не умел, как кинто, делать деньги “из воздуха”, из анекдота, из неприличной шутки, из “ишачьего крика”» [16, с. 371]?
Какие образы встают перед читателем при перечислении социальных фигур, когда Кирилл Зданевич пишет о Пиросмани: «Он рисовал толстых духанщиков, стариков и старух, виноторговцев, нищих, кинто…» [7, с. 8]?
Что имел в виду Сергей Довлатов в повести «Наши», где рассказчик сообщает о своем дяде: «В юности он был тифлисским кинто» [6, с. 164]?
Примеров можно привести не один десяток (особенно из литературы нон-фикшн). Несомненна необходимость введения слова кинто и его смыслов в русский культурологический контекст.
Фигура кинто была, с одной стороны, маргинальной, с другой – чрезвычайно популярной и яркой в городском ландшафте Тифлиса начала ХХ века. Каждый, вскользь упоминающий о кинто или пишущий о нем специально, формулирует свое отношение к нему – восторженное, как к экзотической фигуре Востока, или уничижительное, как к «порочному наследию прошлого». Таким образом, фиксируем неоднозначное отношение к кинто. (Смею предположить, что диалог, представленный на упомянутой карикатуре, шутливый: вряд ли Табидзе был борцом с кинто.)
Вхождение грузинской культуры в русскую было особенно активным с начала XIX века. Однако ни у Грибоедова, ни у Пушкина, ни у Лермонтова о кинто упоминаний нет. Оно появляется в русских текстах с конца XIX века и существует там весь двадцатый. Можно предположить, что кинто – плод урбанизированных (социальных в том числе) и миграционных процессов означенного периода. Правда, в «грибоедовском тексте» – романе Юрия Тынянова – есть фрагмент, где угадывается фигура кинто:
«…За окном брякнула гитара… Где-то поблизости, напротив, в переулке, сладостный и жидкий голос запел:
Влюблен я, дева красоты… <…> Грибоедов вдруг оживился. Он слушал.
Дева гор, дева гор…
В доме напротив, из-за деревьев, в открытое окно виднелся конец молодого носа, поднятого кверху, и из-под расстегнутого ворота бился и трепетал галстук» [18, с. 203].
В этом портрете ночного куплетиста распознается кинто, прямо не названный автором, но обозначенный как перифраз – набором опознавательных примет кинто, ставших популярными ко времени написания романа.
Множество толкований слова и понятия «кинто», разбросанных по текстам разных жанров, приводит к итогу: кинто – это городской балагур, скоморох, певец и танцор, по совместительству мелкий торговец-разносчик сопутствующих товаров (зелени, фруктов, сладостей), уложенных в корзину или на поднос и водруженных на голову кинто, который виртуозно, артистично, с шутками-прибаутками передвигался по городу. «Рядом идет торговец – кинто, у которого весь товар находится на деревянном блюде, водруженном на собственной голове» [7, с. 24].
«На огромной деревянной чаше-подносе (табахи) кинто раскладывали горы фруктов, овощей, зелени, яйца, рыбу и др и, водрузив это сооружение себе на голову, отправлялись на работу. Для удобства голову обматывали специальным покрывалом кинти , которое удерживало в равновесии тяжелое табахи. Кинто довольно свободно и быстро передвигались со своей ношей, оставляя обе руки свободными. Иногда кинто развозили свой товар на больших тачках, запряженных ослами. Кинто обычно неистово рекламировал свой товар, громко зазывая к себе покупателей. При этом он нещадно коверкал русские слова, создавая свой собственный рекламный сленг, лишенный порой всякого смысла, но в общем-то достаточно понятный и привлекательный для рядового тбилисского покупателя: “Агурец, агурец, Александре молодец”, “черешни, вишни испанцки”, “яблок антоновцки”, “перцик, перцик, априкос”,
“смотри сюда, купи што ли” – эти и другие специфические возгласы кинто сотрясали все вокруг.
Завидев, что кто-либо из покупателей проявляет интерес к его товару, кинто тут же снимал с головы табахи или останавливал своего осла и начинал торговаться. При этом кинто был не прочь надуть покупателя, и в этом смысле за ними утвердилась весьма дурная слава. Обмеры и обвесы в соединении с мощным напором на покупателя были главными методами кинто» [2, с. 66].
Ни одно городское веселье не проходило без участия кинто – на картинах, фотографиях с соответствующим содержанием присутствует танцующий кинто.
Его легко распознать по внешнему облику: высок, строен; «кинто в широких шароварах и лихо заломленных фуражках…» [7, с. 23]; «За ремешок был заткнут большой красный платок, который служил чашей весов при взвешивании товара. С этим же платком исполняется знаменитый танец “кинтоури”» [5]; «Слышны звуки шарманки, исполняющей популярную мелодию, идут живописно одетые кинто. Лихо сдвинута на затылок фуражка блином. Пестрым платком повязана шея, под синей чохой горит красный архалук. Широкие штаны заправлены в шерстяные с пестрым узором носки. На ногах мягкие черные чусты. Острословы и кутилы, они возвращаются с ночного пиршества; герои, ищущие славу за столом, где они, бахвалясь, прославляют друг друга и восхищаются своими плутнями на торговом поприще» [7, с. 24–25].
Кинто – участник традиционных ритуалов. Кирилл Зданевич описывает сценку, изображенную на картине художника Ладо Гудиашвили: «Его интересно задуманный рисунок “Поминальный тост Пиросмани” проникнут чувством грусти по рано умершему художнику. Поднята могильная плита, ее подпирает скорбящая и осиротевшая лань, как бы поджидающая выхода живого Нико. Кинто, играя на органе, льет вино на могилу – старинный грузинский поминальный обычай» [Там же, с. 91].
Некоторые горожане, желая эпатировать зрителя, хотят походить на кин-то – говоря о персонажах Пиросмани, Кирилл Зданевич отмечает: «Также нарядны мальчики – сыновья богатых духанщиков, одетые в костюмы кинто. Они важны и немного чванливы» [Там же, с. 47] (см. картину Нико Пиросмани «Сын богатого кинто», купленную у художника Ильей Зданевичем, открывателем Пиросмани для русского и мирового зрителя). Чтобы полно воспринять живопись Пиросмани – необходимо иметь представление о кинто и контексте его бытия: «Много раз кинто были героями картин Нико, особенно хорош его портрет кинто “Александр Гара-нов”» [Там же, с. 25].
Из беседы Ильи Зданевича и Пиросмани: «Я люблю рисовать простой люд: крестьян, кинто, мушей, дворников, женщин, детей…» [Там же, с. 58]. Вот описание одной из картин Пиросмани: «Замечательна композиция этой картины, на ней множество людей, но они прекрасно увязаны между собой и с окружающей природой. Деревья и горы обрамляют с двух сторон картину. Внизу река, и на ней барка, шестеро весельчаков за накрытым столом подняли руки с бокалами вина. На другой барке четыре пирующих человека, один гармонист и два рыболова. Внизу через реку перекинут мостик, и на нем юный погонщик в башлыке и ослик с переметными сумками. Слева, на переднем плане – здоровенный мишка на цепи стоит на задних лапах. К двум деревьям, очень уместно вписанным в картину, привязан белый баран-боец, победитель во всех сражениях с себе подобными. Выше буфет, уставленный бутылками, за стойкой – духанщик, рядом с ним сидят четверо кинто, пятый самозабвенно танцует лекури» [Там же, с. 62] (лекури – лезгинка).
Кирилл и Илья Зданевичи, первые пиросманеманы и пиросманеведы, описывают кинто как инокультурную данность, с симпатией или же нейтрально, но без хулы.
Плутовство, трикстерство – главная составляющая поведения кинто:
«Дядя Роман Степанович любил повторять:
– В здоровом теле – соответствующий дух!..
В юности он был тифлисским кинто. Перевести это слово довольно трудно. Кинто – не хулиган, не пьяница, не тунеядец. Хотя он выпивает, безобразничает и не работает… Может быть – повеса? Затрудняюсь…
У моего дяди был огромный кинжал. Он с юности любил вино напареули и полных блондинок…
Чуть ли не главное достоинство истинного кинто – остроумие. Юмор моего дяди отличался некоторым своеобразием. Так, например, мой четырнадцатилетний дядя омрачил юбилей грузинской советской республики.
Дело происходило следующим образом. В Тбилиси широко отмечалась знаменательная годовщина – семилетие республики. Огромный зал Дворца культуры имени Либкнехта был переполнен. Высокое начальство произносило речи. Вслед за ним шли на сцену представители этнических меньшинств. От армян выступала тетка, дядина сестра. Звали ее Анеля. К выступлению тетка Анеля готовилась недели две.
– Вот уже семь лет… – начала она.
Зал притих.
– Вот уже семь лет… – повторила тетка. <…>
И тогда в зале раздался оживленный голос моего дяди:
– Вот уже семь лет, как Анелю замуж не берут…
Тетка Анеля, рыдая, покинула сцену. Дядю Романа сутки продержали в милиции…» [6, с. 164–165] – таким предстает довлатовский кинто из повести «Наши» – незлобивым, нелепым, сродни «низкому» герою сказки – Ивану-дураку.
Именно эту суть подтверждает следующий фрагмент, описывающий контекст бытования кинто: «Вот таким образом возник на Кавказе своеобразный сухопутный “порто-франко”, космополитичный Гуланшаро (вымышленный город с персидским названием. – Э. Ш.). Здесь вместо неожиданных изгибов каналов были сулившие такие же неожиданные встречи изгибы переулков. Любимым праздником был свой карнавал – Кейноба, свои любимые персонажи: вместо Коломбины – томная Кекел, а вместо неунывающего Арлекино – весельчак кинто» [4].
Кинто – персонаж, замешанный на колониальных дрожжах: его песенки, прибаутки мультикультурны, они чаще звучали на ломаном русском: «Бедный, бедный, бедный я кинто, / Не пожалеет меня никто! / Женился я давным-давно – / Не любит меня все равно. / Жена моя Кекела – / Черная, как холера, / С длинным носом красным / И лицом ужасным. / Хочу жена белый – / Как на стенке мелом, / Чтоб любила меня и на самом деле» [15].
Если искать типологические схождения и аналогии в русской культуре, то таковой фигурой может быть раёшный дед, демонстрирующий гуляющим и ротозеям на ярмарках свои примитивные лубочные картинки, которые размещены в специальном ящике – райке. Но главное в деятельности раёшного деда – это устный текст:
Была у нас с Матреной дочка –
Из себя кругла, как бочка.
Посватался к ней из царева кабака отшельник,
Да и повенчался в чистый понедельник.
Уж и приданое мы ей, братцы, закатили, Целый месяц тряпки стирали и шили.
Платье мор-мор
С Воробьиных гор,
А салоп соболиного меха –
Что ни ткни рукой, то прореха… [17, с. 135].
Кстати, одна из популярных тем в репертуаре русского раёшного деда связана со взятием Еревана (в устах раёшника - Аривань ) князем Паскевичем-Эриван-ским, пленением Шамиля, бомбардировкой Одессы (в устах раёшника - Адеста ) времен Крымской войны.
Раёшным стихом, как видим, созданы и песенки кинто, и стихи раёшного деда.
У кинто в том же городском пространстве был вечный антагонист - кара-чохели , что значит «одетый в черную чоху» (верхняя одежда), рыцарь, грузинский джентльмен.
«Карачохели пел:
Облака за облаками по небу плывут,
Весть от девушки любимой мне они несут… или
Ах, луна, луна, надежда пылающих любовью…
Кинто ради пущего веселья переводил его стихи на “русский”, с позволения сказать, язык:
Кусок, кусок облак идет от висок небеса, Запечатан писмо от лубовниса…
Ах, луна, луна, жареных надежда» [10].
Однако встречаются и противоположные [3, с. 1], порой агрессивно-оценочные описания кинто [1, с. 167]. Его клеймят как фигуру порочную, развратную, слышны гомофобные обвинения. Слухи и наветы, будучи фольклорными формами, имеют известное свойство – расти и увеличиваться как снежный ком, превращаясь в мифологию повседневности, приобретая железобетонное свойство якобы истины. Мы уже наблюдали подобный процесс с социально-культурной прослойкой Туркестанского Востока – танцорами-бачи (см.: [20, с. 45–72]).
Не случайно, видимо, бача и кинто стали персонажами типологического исследования (см.: [14]), автор которого видит много общего в танцах бачей и кин-то, а именно их эротический флер; пытается отыскать истоки слова кинто: догадки приводят его в Персию, откуда, возможно, в Туркестан пришли и танцы бачей. Отсылая читателя к наветам мифологического характера, автор умозаключает, что по сути кинто и бача – почти «родственники», так как оба этих социальных типа якобы оказывали услуги сексуального характера. Аналогия сенсационно заманчивая, но, думается, неправомерная: подобные услуги, известные с того момента, как помнит себя человечество, в истории культур несводимы к персидскому генезису и танцорам; а также о кинто не упомянул ни один русский путешественник до означенного времени – информация датируется рубежом XIX–XX веков, а о бачах русским колонизаторам было известно много раньше.
В 1920-е годы грузинские авангардисты также не забывают упомянуть о кинто: одни – как о явлении традиционном, другие – как об отсталом. В частности, Бено Гордезиани среди истоков футуристической группы «H2SO4» называет «старый Тбилиси, кавказскую чоху, широкие шаровары и фотографические монастырские фрески» [13, с. 139] (курсив мой. – Э. Ш.), где «широкие шаровары» – аллюзия на кинто; а в статье Симона Чиковани достается художникам, рисующим кинто: «Переходя к живописи, Чиковани в той же иронично-язвительной манере пишет о художниках М. Тоидзе и “дирижере кинто” Гудиашвили. Статья заканчивается предложением “обратить внимание на антисанитарное положение в искусстве”» [Там же, с. 145].
Версии о появлении кинто варьируют в интернет-пространстве: от «Кинто были представителями особой тбилисской городской культуры, развившейся после присоединения Грузии к России и ушедшей в прошлое после Октябрьской революции» [5] до «В связи с этим в городской культуре Тбилиси постепенно исчезло традиционное представление о кинто, он обрел совсем другой, условно-символический смысл (речь идет о гомоэротическом смысле. – Э. Ш.) и стал неотъемлемой частью фольклорно-гиперболизированной истории Тбилиси» [3, с. 1], – с чем тоже нельзя согласиться.
Став фольклорным персонажем, кинто появляется в творчестве современных авторов: один из них создает воображаемую встречу Пушкина и кинто – то, чего не было, но могло бы быть, если б о кинто было известно в пушкинские времена:
В извивах улочек тифлисских под вечер Пушкин заплутал
И вышел в сад, где пир в разгаре, где князь застолье возглавлял…
Чредою ослики стояли, печально уши опустив,
А по бокам у них – корзины, полны несметно огурцов,
Барыш Сикуле светит. «Пушкин, ах, как ты добрый, как красив…» – Корзину купит и другую, вот молодец из молодцов!
Кинто смеется, Пушкин тоже с улыбкой траты подсчитал,
– Сико, бандюга авлабарский, небось навара и не ждал?
Не стыдно – гостя так обжулить…
Хохочут Пушкин и Сико,
Что огурцы, и деньги – мусор… Светло на сердце и легко… [11].
Итак, современному читателю/зрителю кинто предстает то безобидной фигурой («Духанщики, кинто и все, живущие в основном мелким (а иногда и крупным) плутовством…» [7, с. 10]), то фигурой зловещей, напоминающей знаменитый мандельштамовский образ:
Взобрался на трон царей
Узколобый тифлисский кинто,
В хромовых сапогах, в галифе,
Превратив трон в фаэтон…
Сидит, погоняет хам
Рысью, затоптать всех готов.
Тиран, Нерон, грубый мужлан, Несущий слезы и кровь [19].
В современных устных нарративах, анекдотах, бытующих на Кавказе, кин-то чаще всего появляется на вокзале – он «встречальщик»:
«Прибывают в город на вокзал двое русских, один из них говорит: “Сейчас я этого кинто проучу”.
– Вот тебе рубль, принеси поесть нам, нашему ослу, на котором мы будем путешествовать по Тифлису, и еще пашар (еда на дорогу).
Кинто быстро возвращается – несет большой арбуз:
– Вот вам: сейчас его поедите, корки оставите ослу, а семечки – на пашар» [8, с. 1].
Следующий анекдот демонстрирует высокую самооценку кинто:
«Тифлисский вокзал. Из поезда выходит роскошная графиня. Один кинто говорит другому:
– Пойду предложу свои услуги.
Графиня отказалась от услуг. Кинто возвращается к другу:
– Отказала.
– А чем мотивировала?» [Там же].
У кинто, высокого и худощавого, всегда есть антагонист, на этот раз – почти исполин:
«На вокзале: выходит из поезда русский, высокий, богатырь, обращается к кинто:
– Получишь от меня 10 рублей, если поцелуешь меня в губы, дотянувшись и не вставая на цыпочки.
На что кинто отвечает:
– Получишь от меня 100 рублей, если поцелуешь меня в задницу, не кланяясь» [Там же].
В Абхазии фигуру, типологически родственную кинто, величают цхвиро . Современные информанты [Там же, с. 2, 3, 4] и того, и другого охарактеризовали так: насмешник, весельчак, гуляка, лукавый, ловкач, острослов, воображуля. По мнению ряда информантов, ироничное, а порой и негативное отношение к кинто в Грузии объясняется тем, что кинто – не грузин.
Смею предположить, что в грузиноязычных исследованиях можно найти немало ответов на вопросы, возникающие по поводу происхождения такого явления, как кинто, и его социальной роли, а если подобных исследований нет, то они обязательно появятся. Целью данного сообщения было обратить внимание читателей на эту интересную и противоречивую фигуру грузинской (а возможно, в истоках, и армянской, и персидской – вообще восточной) культуры, впечатлившей когда-то русских культуртрегеров и поэтов, – для заполнения лакуны в многоэтническом узоре русского дискурса.
Между тем, по свидетельству поэта Бахыта Кенжеева, кинто по-прежнему гуляет по Тбилиси: «Я видал в присмиревшей Грузии, как кепкой-аэродромом щеголял кинто…» [9, с. 5].
Moscow City University the Department of Russian Literature
Список литературы Кинто: загадочная фигура в русских текстах
- Ананиашвили Г. Бесславный конец пресловутого «Георгиевского Трактата» и «мирного посредничества». Тбилиси, 2007. 195 c. //Geum.ru. URL: http://geum.ru/next/art-141433.php. (Дата обращения: 22.08.2016.)
- Анчабадзе Ю. Д., Волкова Н. Г. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке. М.: Наука, 1990. 272 с.
- Габуния Ш. Гомосексуальность в городской культуре Тбилиси. Тбилиси, 2009. 30 с. //Heinrich Boll Stiftung. URL: http://ge.boell. org/sites/default/files/downloads/Shorena_Gabunia_2009.pdf. (Дата обращения: 14.03.2016.)
- Григорян Л. Параджанов: Герой того времени //ЛитМир: электронная библиотека. URL: http://www.litmir.me/br/?b=156902&p=8. (Дата обращения: 14.03.2016.)
- Джугашвили Е. Мой сын -Иосиф Сталин. М.: Эксмо, 2013. 256 с.
- Довлатов С. Д. Наши//С. Д. Довлатов. Собр. прозы: в 3 т. Т. 2. СПб.: Лимбус-пресс, 1993. C. 155-244.
- Зданевич К. М. Нико Пиросмани. Тбилиси: Литература и искусство, 1963. 140 c.
- Информанты: 1 инф. -Лев Эсиньян (прож. в Москве); 2 инф. -Полина Парцикян (прож. в Москве); 3 инф. -Пайлун Парцикян (прож. в Абхазии); 4 инф.-Гоги Надаришвили (прож. в Москве).
- Кенжеев Б. Варить стекло: стихи//Знамя. 2011. № 3. С. 3-6.
- Кузнецов Э. Пиросмани //Онлайн-библиотека Coollib. URL: http://coollib.com/b/242770/read. (Дата обращения: 22.08.2016.)
- Мачавариани М. Пушкин в Тифлисе // Футурум АРТ. 2013. № 2 (37) [Электронный ресурс] // Читальный Зал. Национальный проект сбережения русской литературы. URL: http://www.reading-hall.ru/publication.php?id=7556&PHPSES- SID=102f913e85d9bf4ab76b1bb8b929a768. (Дата обращения 14.03.2016.)
- Маяковский В. В. Владикавказ -Тифлис//Маяковский В. В. Собр. соч.: в 12 т. Т. 3. М.: Правда, 1978. С. 63-67.
- Никольская Т. Л. Журнал грузинских новаторов «H SO »//Никольская Т. Л. Авангард и окрестности. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. С. 127-152.
- Панфилов О. Кинто -запретная тема? //Грузия Online. 2012. 27 января. URL: http://www.apsny.ge/society/1327697532.php. (Дата обращения: 14.03.2016.)
- Партугимов В., Баблоян А. История одного города: Тбилиси //Эхо Москвы. 2008. 15 июня. URL: http://echo.msk.ru/programs/historyofcity/519819-echo/. (Дата обращения: 14.03.2016.)
- Паустовский К. Г. Бросок на юг//Паустовский К. Г. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.: Худож. лит., 1968. С. 217-402.
- Русская народная драма XVII-XX веков/ред. П. Н. Берков. М.: Искусство, 1953. 355 c.
- Тынянов Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара//Тынянов Ю. Н. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Вагриус, 2006. С. 5-515.
- Чаренц Е. Тифлисский кинто/пер. с арм. Э.-А. Гвиччиоли //Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2012/12/15/9260. (Дата обращения: 14.03.2016.)
- Шафранская Э. Ф. А. В. Николаев -Усто Мумин: судьба в истории и культуре. СПб.: Свое изд-во, 2014. 170 c.