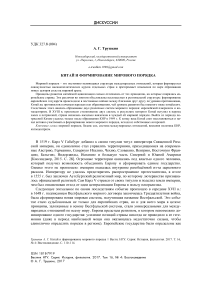Китай и формирование мирового порядка
Автор: Трушкин Антон Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Мировой порядок - это постоянно меняющаяся структура международных отношений, которая формируется совокупностью внешнеполитических курсов отдельных стран и претерпевает изменения по мере образования новых центров силы на мировой арене. Принципы развития китайской цивилизации сильно отличались от тех принципов, на которые опирались европейские страны. Эти различия во многом обусловлены несхожестью в региональной структуре: формирование европейских государств происходило в постоянных войнах между близкими друг другу по уровню противниками, Китай же противостоял кочевым народам или образованиям, чей уровень развития был намного ниже китайского. Следствием этого явилось образование двух различных систем мирового порядка: европейский плюрализм и китаецентризм. В XVIII в. произошло столкновение двух систем, в результате которого Китай вступил в период хаоса и потрясений, страна оказалась насильно вовлечена в чуждый ей мировой порядок. Выйти из периода потрясений Китаю удалось только после образования КНР в 1949 г. К концу века Китай смог восстановиться и начал активно участвовать в формировании нового мирового порядка, исходя из собственных воззрений.
Мировой порядок, баланс сил, система международных отношений, внешняя политика кнр, китаецентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219756
IDR: 147219756 | УДК: 327.8
Текст научной статьи Китай и формирование мирового порядка
В 1519 г. Карл V Габсбург добавил к своим титулам титул императора Священной Римской империи, он единолично стал управлять территориями, приходящимися на современные Австрию, Германию, Северную Италию, Чехию, Словакию, Венгрию, Восточную Францию, Бельгию, Нидерланды, Испанию и большую часть Северной и Южной Америки [Киссинджер, 2015. С. 28]. Огромные территории оказались под властью одного человека, который получил возможность объединить Европу и сформировать единое государство. Однако этого не произошло: империя оказалась внутренне разобщённой из-за церковного раскола. Императору не удалось предотвратить распространение протестантизма, в итоге в 1555 г. был заключен Аугсбургский религиозный мир, по которому лютеранство признавалось официальной религией. Сам Карл V отрекся от своих титулов и поделил земли империи, чем был ознаменован отход от идеи централизации Европы в пользу плюрализма.
Следующее эпохальное по своим последствиям событие произошло в середине XVII в.: в 1648 г. подписанием Вестфальского мирного договора закончилась Тридцатилетняя война, была сформирована новая мировая система, получившая название Вестфальской. Это событие стало судьбоносным не только для европейских стран, но и для всего мира в целом: принципы, заложенные в основу Вестфальской системы, стали универсальными для международных отношений по всему миру. Европа предстала регионом, в котором невозможно доминирование одного государства: усиление позиций страны никогда не приводило к ее гегемонии (даже в период наибольшей мощи она оказывалась недостаточно сильна, чтобы единолично определять порядок в регионе). Европейские государства были определены как
Трушкин А. Г. Китай и формирование мирового порядка // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 4: Востоковедение. С. 110–114.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 4: Востоковедение
равноправные, основой системы отношений между ними стал баланс сил, а приоритет отводился национальным интересам.
Параллельно в политической философии происходит формирование новых точек зрения на происхождение государства, его цель и задачи. В 1651 г. в свет вышла работа Томаса Гоббса «Левиафан», в которой автор, во-первых, заявляет о происхождении государства на договорной основе, во-вторых, определяет цель государства в обеспечении безопасности, при этом пишет, что «соглашение без меча – лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность», для безопасности же достаточно, «когда избыток сил на стороне врага не настолько велик, чтобы он мог решить исход войны и побудить врага к нападению» [Гоббс, 1991. С. 130]. Иначе говоря, задачей государства оказалось недопущение такой ситуации, когда у противника (а по сути, все остальные государства в Европе не более чем потенциальные противники) окажется перевес сил, достаточный для того, чтобы угрожать его безопасности. Это, в свою очередь, подразумевает постоянный поиск средств усиления, причем как в Европе, так и за ее пределами.
Таким образом, за сто лет, прошедших между заключением Аугсбургского религиозного мира, признавшего легитимное сосуществование протестантизма и католичества и этим подчеркнувшего раскол в Западной Европе, и подписанием Вестфальского мирного договора, утвердившего равноправное сосуществование национальных государств, в сознании европейца закрепились представления о плюралистическом мировом порядке, основанном на равенстве, поддерживаемом при помощи баланса сил. Европа стала представлять собой совокупность близких друг к другу по уровню развития государств, сосуществующих, согласно Т. Гоббсу, в стремлении обеспечения безопасности и предполагающих собственные национальные интересы превыше всего. Подобный взгляд на мир формирует обстановку жесточайшей конкуренции, предполагающей непрерывное усиление собственных позиций по сравнению с позициями «соседей». Как следствие, произошло усиление экспансионизма и попыток изыскать дополнительные ресурсы для укрепления. Однако подобное видение мира не было повсеместным и универсальным.
Принципиально иное восприятие мирового порядка было в Китае. Это объясняется абсолютно иными условиями зарождения и развития китайской цивилизации. Китайское мировосприятие прекрасно иллюстрируется самоназванием страны – Чжунго , – которое переводится как «Срединное государство» и подразумевает центральное место страны в мире. При этом «избранность» Китая, позволяющая ему занимать в мире центральное место, гарантируется высоким уровнем культурного развития страны, следствием чего выступает уникальное видение мирового порядка и своей роли: «многие государственные деятели и деятели культуры Хань настаивали на том, что подчинение империей своему влиянию периферии должно осуществляться исключительно путем оказания на варварские народы “благого”, цивилизационного воздействия» [Кравцова, 1999. С. 108]. Подобное восприятие мира оказалось устойчивым настолько, что даже когда возникла серьёзнейшая опасность превращения страны в полуколонию европейских государств, китайские власти не покидала убежденность в более низком положении всех чуждых Китаю культур.
В 1405 г. евнух Чжэн Хэ отправился в первое из семи плаваний, всего за чуть менее чем 30 лет адмирал с флотом побывал в странах Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки. В начале XV в. Китай был достаточно силен, чтобы распространить свою власть за пределами китайской ойкумены. Для Китая Чжу Ди это был исторический шанс пойти по другому пути развития: замкнутая в себе страна могла наращивать свое влияние в некитайском мире. Как и у Священной Римской империи при Карле V, у Минской империи при Чжу Ди была возможность кардинально изменить направление развития. Однако если у Карла V были реальные шансы, консолидировав свою власть и установив упорядоченное наследование, объединить Европу, то возможность, появившаяся у Чжу Ди, была эфемерна. Китай мог активно развивать контакты с дальними странами, укреплять торговые и военные связи или же создать колонии и вывозить из них полезные ископаемые, однако Китаю это было не нужно. Позиция Китая по этому вопросу долгое время оставалась неизменна: у Китая есть все, что ему необходимо, поэтому организация дорогостоящих экспедиций с непонятными для китайцев целями была нелогична.
Что касается политической мысли, то как при оценке миропорядка, так и во взаимоотношении с другими странами, позиция Китая не менялась веками. В легенде о Жёлтом императоре Китай как будто бы уже существует, он лишь находится в хаосе [Киссинджер, 2014. С. 20]. Другими словами, Китай предполагается как неизменный феномен, который существовал с момента сотворения мира, соответственно, другие страны – это нечто преходящее. Основой внешних контактов Китая были связи либо с государственными формированиями, которые были значительно слабее самого Китая, либо с кочевыми племенами. У Китая вплоть до XVIII в. не было контактов с равными ему по силе государствами, что привело к утверждению китаецентристской модели мира. Неслучайно и столь трепетное отношение Поднебесной к своей культуре: культурное превосходство над долгое время составлявшими периферию Китая варварскими племенами было очень велико, что позволяло при необходимости инкорпорировать эти племена в свою структуру.
Таким образом, мы имеем дело с двумя абсолютно разными системами восприятия мира и, как следствие, абсолютно разными сценариями развития истории. Плюралистическое восприятие мира в Европе, приведшее к политике баланса сил и ожесточенной конкуренции между странами, с одной стороны, и китаецентризм, вызвавший закрытость Китая, с другой. Учитывая постоянный поиск новых ресурсов западноевропейскими странами, столкновение двух систем было делом времени. Китай, привыкший культурно ассимилировать намного менее развитых соседей или своих захватчиков, получил в противники государства, которые обошли Китай в научно-техническом развитии и обладали собственной развитой культурой. Для Китая это был абсолютно новый тип противостояния, исход которого закономерен: страна оказалась насильно втянута в устоявшуюся в Европе систему международных отношений и вступила в полосу серьёзных внутренних потрясений, начавшихся с первой опиумной войной и закончившихся вместе с правлением Мао Цзэдуна.
Длившийся более 100 лет период хаоса вновь окончился возрождением, потрясения, через которые прошёл Китай, привели к переосмыслению страной своих позиций в мире: новый Китай родился в биполярном мире и очень сильно отставал от других стран. Мао Цзэдун осознавал положение Китая и признавал, что первоочередной задачей является восстановление страны. На встрече с А. И. Микояном он сказал, что сначала следует подмести в доме, а уже потом приглашать туда гостей [Галенович, 2009. С. 195]. Схожую мысль несколько позже высказал Дэн Сяопин в своем указании из 28 иероглифов: «необходимо скрывать свои способности и ждать своего часа». Руководство КНР первые десятилетия после своего основания отчётливо осознавало, что оно сильно уступает передовым государствам того периода, однако внешняя политика, которую проводила КНР в момент своей наибольшей слабости и незащищенности, указывала на то, что национальное самосознание китайцев изменилось мало и они по-прежнему являют собой уникальное государственное образование. Китай повел себя как сильное государство и принял активное участие в Корейской войне, несмотря на то, что благоразумнее было бы не вступать в подобные конфликты до внутреннего восстановления. Тем не менее, для Китая было важно поддержание образа сильного государства, поэтому он очень быстро вступил в конфликт на Корейском полуострове.
Политика, предложенная Дэн Сяопином, позволяла Китаю демонстрировать стремительное экономическое развитие, однако во второй половине 1990-х гг. темпы роста экономики замедлились, а стране потребовалась новая стратегия. Переосмысление стратегического курса Китая привело к созданию концепции «нового мышления в дипломатии» (« 中国外交新思 维 », чжунго вайцзяо синь сывэй ), предполагавшей реакцию, во-первых, на новые региональные вызовы, во-вторых, на проявившиеся экономические проблемы. Падение темпов экономического роста страны имело под собой две основные причины: во-первых, невозможность опоры КНР исключительно на собственную ресурсную базу, во-вторых, экономическую отсталость западных районов страны по сравнению с восточными. Преодоление дисбаланса в развитии восточной и западной частей страны и поддержание темпов роста экономики соответствующей ресурсной базой стали двумя задачами, решение которых должно было привести к стабилизации экономического развития страны. В рамках «нового мышления в дипломатии» руководством КНР сформированы две тесно связанные стратегии: «идти вовне» (« 走出去 », цзоучуцюй ) и «интенсивное развитие западной части [страны]» (« 西部大开发 », сибу да кайфа ).
Стратегия «идти вовне» была официально выдвинута на третьей сессии девятого созыва ВСНП (05–15.03.2000) и предусматривала «полноценное использование китайскими пред- приятиями внешних и внутренних рынков сбыта и источников ресурсов («两个市场,两种资 源», лянгэ шичан, лянчжун цзыюань), активное участие в международной конкуренции и сотрудничестве посредством прямых зарубежных инвестиций, подрядов на строительные работы за рубежом, международного сотрудничества в сфере трудовых ресурсов» 1. Стратегия предусматривала пошаговое осуществление четырёх этапов, направленных на формирование нового типа китайских предприятий [Столярова, 2009. С. 86]. Стремление к укреплению внешних экономических связей привело КНР к необходимости интенсификации политических контактов и более активному участию Китая в международных организациях.
Наиболее показательно в этом плане центрально-азиатское направление политики КНР: во-первых, центральная Азия является источником сырья, в том числе необходимых Китаю нефти и газа; во-вторых, центрально-азиатские страны обладают существенным транзитным потенциалом, реализация которого является важнейшим этапом интенсификации торговоэкономических контактов с европейскими странами; в-третьих, Центральная Азия представляет собой рынок сбыта китайских товаров. Стремление развить экономические контакты вызвало к необходимости использования политических инструментов: в 2001 г. образована ШОС, в цели которой вошло развитие экономического сотрудничества между членами организации. Результатом такой политики стал рост товарооборота: «за период 2001–2008 гг. товарооборот между КНР и ЦА вырос в 13–14 раз, составив порядка 20,2 млрд долл.» [Парамонов и др., 2010. С. 85]. Подобное усиление экономических контактов побудило КНР к развитию взаимоотношений на институциональном уровне; продолжая политику движения вовне, Китай предпринял попытки реализации транзитных возможностей центрально-азиатских стран, проявившиеся в инициативе создания Нового Шёлкового пути.
Таким образом, Китай осознал необходимость вхождения в инородную для себя мировую систему, основанную на далёких для Китая принципах. Однако это лишь изменило модель поведения Китая, но не изменило его сущности. Активное участие в международной деятельности, создание новых проектов, направленных на укрепление сотрудничества с другими странами – это реакция Китая на внешние факторы, указывающая на понимание Китаем новых международных реалий. Однако принципы мирового порядка у Китая по-прежнему свои, что проявляется, например, в реакции КНР на международные резолюции: Китай не признал решения гаагского суда по Южно-Китайскому морю, по сути, проигнорировав мнение международного сообщества по вопросу принадлежности территории. С другой стороны, КНР продолжает активно наращивать внутренний потенциал за счет упрочнения позиций в развивающихся странах АТР, Африки и Средней Азии. Это говорит о том, что Китай накапливает внутренние ресурсы и пытается менять существующий мировой порядок исходя из собственных интересов.
Список литературы Китай и формирование мирового порядка
- Галенович Ю. М. Сталин и Мао. Два вождя. М.: Вост. кн., 2009. 574 с.
- Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.: Мысль, 1991. 544 с.
- Киссинджер Г. Мировой порядок. М.: АСТ, 2015. 512 с.
- Киссинджер Г. О Китае. М.: АСТ, 2014. 635 с.
- Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб.: Лань, 1999. 416 с.
- Парамонов В., Строков А., Столповский О. Внешняя политика Китая в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2010. Т. 13, № 4. С. 75-89.
- Столярова Е. С. Внешнеэкономическая стратегия КНР в XXI в. и миграционная политика // Вестн. Том. гос. ун-та. 2009. № 327. С. 86-89.