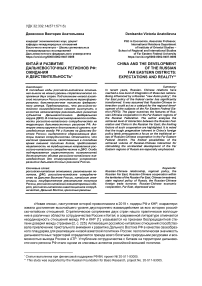Китай и развитие дальневосточных регионов РФ: ожидания и действительность
Автор: Денисенко Виктория Анатольевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2020 года.
Бесплатный доступ
В последние годы российско-китайские отношения вышли на новый уровень стратегического сопряжения двух стран. Под влиянием «новой азиатской политики» России значительно трансформировалась дальневосточная политика федерального центра. Предполагалось, что российско-китайское взаимодействие сможет выступить в качестве катализатора регионального развития субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО). В статье рассматриваются особенности российско-китайского сотрудничества на территории дальневосточных регионов РФ. Автором анализируется достигнутый уровень взаимодействия между РФ и Китаем на Дальнем Востоке России; выделяются сдерживающие факторы такого сотрудничества. Отмечается, что жесткий прагматизм, свойственный в последнее время внешней политике Китая, предполагает нацеленность на традиционные направления российско-китайского сотрудничества в ДФО. Особо подчеркивается ограниченность возможностей достигнутого объема российско-китайского взаимодействия для стимулирования ускоренного развития дальневосточных регионов России.
Российско-китайские отношения, региональная политика, дфо, российско-китайское сотрудничество на дальнем востоке России, китайские инвестиции, государственная региональная политика России, российско-китайский внешнеторговый оборот, российско-китайское инвестиционное сотрудничество, дальний восток, кризисные регионы
Короткий адрес: https://sciup.org/149134242
IDR: 149134242 | УДК: 32:332.14(571:571.6) | DOI: 10.24158/pep.2020.11.2
Текст научной статьи Китай и развитие дальневосточных регионов РФ: ожидания и действительность
School of Regional and International Studies of Far Eastern Federal University
«Новая эпоха», наступление которой провозгласили в 2019 г. лидеры РФ и КНР, охарактеризовала достижение высочайшего уровня двустороннего взаимодействия за всю историю российско-китайских отношений. Стратегическое сопряжение двух стран нашло практическое воплощение в различных областях сотрудничества России и Китая; в современной литературе отмечается неординарность отношений между РФ и КНР [1], указывается на признаки беспрецедентной степени доверия между странами [2, с. 225]. Активизация российско-китайских отношений способствовала привлечению пристального внимания к развитию Дальнего Востока РФ в качестве своеобразного плацдарма для реализации «новой азиатской политики» России: геополитическая значимость дальневосточных территорий определяется прежде всего богатыми природными ресурсами и возможностью выхода России в АТР. Углубление сотрудничества с Китаем на территории дальневосточного региона РФ стало одним из ключевых аспектов российской внешней политики.
Вместе с тем в настоящее время регионам Дальнего Востока страны присущи ярко выраженные демографические проблемы, низкая транспортная доступность и неразвитость инфраструктуры, изначально нацеленной на решение задач обеспечения военной безопасности. Вследствие этого, как отмечал М.Ю. Шинковский, для Дальнего Востока России стратегически важной задачей является наращивание геополитического потенциала, особенно его социальноэкономической составляющей [3].
Было бы неправильно сказать, что до «поворота на восток» не предпринималось каких-либо шагов по решению проблемы развития приграничных территорий РФ. Идея дальневосточной политики с китайским акцентом возникла еще до резкого раскола между Россией и Западом. Начиная с 2007 г. дальневосточный вектор четко просматривается в действиях федерального центра, направленных на ускорение социально-экономического развития субъектов РФ. Были выработаны две концепции развития Дальнего Востока: «транзитного региона» и «ресурсного региона» [4]. И вплоть до 2014 г. Дальний Восток выступал ключевым объектом государственной региональной политики. После присоединения Крыма федеральное финансирование дальневосточных регионов снизилось, акцент сместился на новые подходы к поддержке ДФО; был принят ряд правовых актов, регламентирующих трансформацию дальневосточной политики, при этом большое внимание уделялось созданию институтов развития региона. Как следствие, новую жизнь получила идея активизации сотрудничества с Китаем на российском Дальнем Востоке.
Срочный характер дальневосточного проекта в рамках «поворота на восток» был вызван необходимостью усилить геополитические позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в условиях резкого ухудшения отношений со странами Запада. Одной из задач многоплановой азиатской стратегии России была задача привлечения зарубежных инвестиций в экономику Дальнего Востока. Повышению инвестиционной привлекательности субъектов ДФО должны были способствовать такие инструменты, как территории опережающего развития (ТОР - «суперзоны для экономического рывка» [5], по определению А.Н. Швецова) и свободный порт Владивосток (СПВ). Предполагалось, что взаимодействие двух стран сможет выступить в качестве очередного своеобразного катализатора регионального развития Дальнего Востока: принятые в рамках «новой азиатской политики» России документы будут иметь не только политическую значимость, но и получат конкретные экономические последствия [6]. Однако практика показывает, что сотрудничество между РФ и Китаем на российском Дальнем Востоке не столь значительно отображается на социально-экономическом развитии субъектов ДФО, как ожидалось.
В чем причина подобной ситуации? Казалось бы, российско-китайские отношения переживают благоприятный период, Москвой и Пекином заявлено о беспрецедентно высоком уровне двустороннего взаимодействия. Сложная геополитическая обстановка, все более множащиеся западные санкции вынуждают Россию укреплять сотрудничество с КНР. «Стратегический выбор в пользу поднимающейся части мира» [7] в такой ситуации вполне логичен. В свою очередь, обострившаяся в 2018 г. торговая война с США в некотором роде способствовала активизации российско-китайского сотрудничества со стороны КНР. В то же время следует подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в рамках партнерства, а не союза. Стратегия «идти вовне» не означает, что Китай готов вступать в союзнические отношения. Необходимость в «подушке безопасности», в противовесе США не всегда, по мнению А.В. Лукина, предполагает автоматические уступки «напористости» Китая [8, с. 222–223]. Россия, несмотря на общность взглядов с КНР по многим вопросам международных отношений, - стратегический партнер Китая, как и многие другие страны. И у подобного партнерства есть свои пределы как в политической, так и в экономической сфере.
Безусловно, обе страны стремятся к развитию взаимовыгодного сотрудничества. Двустороннее экономическое взаимодействие связано с идеей сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Несмотря на то, что основное сотрудничество в контексте сопряжения направлено на строительство связывающей инфраструктуры, осуществляется взаимодействие и во многих других областях. Так, в отличие от предыдущих лет, в настоящее время Китай выступает ведущим внешнеэкономическим партнером РФ. В Программе развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке России на 2018–2024 гг. провозглашается, что стороны удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества и считают ее образцовой [9]. Китай, по данным 2019 г., является крупнейшей страной-контрагентом во внешнеторговом обороте ДФО (28,2 % стоимости товарооборота российского Дальнего Востока [10]). При этом структура дальневосточного экспорта в КНР носит в основном сырьевой характер, большую его часть составляют топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы. Некоторые изменения в структуре в последние годы связаны с открытием доступа на китайский рынок российским продовольственным товарам. Направленность импорта из Китая, напротив, более высокотехнологичная.
Во многом схожая ситуация сложилась и в инвестиционном сотрудничестве России и Китая на Дальнем Востоке. В настоящее время объектом китайских инвестиций в основном являются такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, строительство, производство морепродуктов; имеются инвестиции в инфраструктуру. 59 проектов с китайским участием в ТОР и СПВ (73 % от общего объема инвестиций, 2,4 млрд долларов США) вполне вписываются в данную картину. В итоге китайские инвестиции в российский Дальний Восток способствуют увеличению экспорта сырья в КНР.
На этом фоне акцент дальневосточной политики федерального центра на ресурсной составляющей региона вполне понятен. Однако не стоит ожидать существенной активизации инвестиций КНР в Дальний Восток РФ. Жесткий прагматизм, свойственный в последнее время внешней политике Китая, предполагает нацеленность на традиционные направления российско-китайского сотрудничества в ДФО; реализация «новой азиатской политики» России для Китая означает не только возможности, но и определенные риски. Проблема воплощения в жизнь достигнутых российско-китайских договоренностей, несмотря на некоторый прогресс, остается актуальной. В несырьевых отраслях дальневосточной экономики невысокая инвестиционная привлекательность региона, несовершенство обширного законодательства, различного рода административные барьеры и по-прежнему некоторая настороженность общественного мнения по отношению к Китаю снижают вероятность вливания китайских инвестиций в российскую экономику. Особо следует отметить, что с точки зрения исследователей из КНР, главным сдерживающим фактором для китайских предпринимателей является низкий уровень открытости дальневосточного рынка России [11]. Стоит сказать, что в отношении китайского рынка для российских компаний эта проблема также сохраняется. Кроме того, присутствует взаимное недоверие со стороны деловых кругов обеих стран.
Разумеется, в настоящее время имеются российско-китайские проекты не только в ресурсной отрасли. В рамках нового этапа двустороннего сотрудничества Россия открыла доступ инвестициям Китая в сферах энергетической и высоких технологий, где и должно осуществляться «аккуратное», по словам президента В.В. Путина, взаимодействие. Сотрудничество в военной и космической областях (многие китайские космические и военные технологии пока еще уступают российским), строительство судостроительного комплекса «Звезда», завершение строительства мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ, старт строительства газохимического комплекса в Амурской области и запуск газопровода ««Сила Сибири» демонстрируют усилия РФ и КНР по достижению уровня провозглашенных отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Но и в этом случае достаточно сложно рассматривать дальневосточные регионы с позиции опережающего развития, так как специализация ДФО традиционно демонстрирует ярко выраженную ресурсную направленность, где выпуск продукции с высокой добавочной стоимостью составляет незначительную долю. Развитие в рамках концепции «ресурсного региона», ориентированное прежде всего на Китай, делает российский Дальний Восток слишком чувствительным к мировым ценам на природные ресурсы. Подобные диспропорции указывают на возросшую зависимость России от Китая, что ослабляет ее позиции в случае возможного диктата со стороны КНР-монополиста.
Таким образом, следует отметить некоторую ограниченность возможностей достигнутого объема российско-китайского сотрудничества для стимулирования ускоренного социально-экономического развития дальневосточных регионов России. Для территорий Дальнего Востока РФ по-прежнему не характерен устойчивый экономический рост, продолжается угрожающий миграционный отток населения. Кроме того, в настоящее время на социально-экономическое положение дальневосточных регионов существенное влияние оказывает эпидемиологический фактор, замедливший динамику российско-китайского экономического сотрудничества и снизивший темпы развития региона в целом. В итоге инструменты, разработанные для реализации масштабной стратегии развития Дальнего Востока и предполагающие активизацию зарубежного, прежде всего китайского, участия в экономике ДФО, оказались менее эффективными, чем ожидалось. Очевидно, что подобной ситуации во многом способствовал мировой кризис. Федеральный центр вынужден обратиться к жесткой экономии финансовых средств, направляемых на реализацию масштабного дальневосточного проекта. Инициативы, связанные с развитием Дальнего Востока как моста в АТР, столкнулись с ситуацией, когда сбыт российских ресурсов излишне зависит от изменений мировой конъюнктуры. Безусловно, в условиях спада цен на углеводороды и прочее сырье Россия будет поддерживать тесное сотрудничество с Китаем в политической сфере, развивать связывающую инфраструктуру. Тем не менее, несмотря на оптимистические заявления, высшая точка российско-китайского взаимодействия, возможно, уже в прошлом. Речь не идет о «повороте с востока», стратегия возвращения России в АТР влечет огромные возможности для страны. Но снижение объема российско-китайского экономического взаимодействия на Дальнем Востоке РФ вполне вероятно. Однако и в этом случае китайский акцент дальневосточной политики федерального центра уже принес определенные результаты, усилив интеграцию ДФО в российскую экономику, что весьма важно для отдаленного приграничного региона. В конце концов, ускоренное развитие дальневосточных территорий зависит не только от внешнеполитических условий и стараний иностранных инвесторов, но также обусловлено качеством управления, в том числе локального, способностью власти эффективно, без коррупционных схем и административных препон интегрировать федеральные проекты в жизнь местного сообщества.
Ссылки:
-
1. Малявин В.В. Путь «невидимого гегемона» // Россия в глобальной политике. 2018. Т. 16. № 5. С. 66–75.
-
2. Лукин А.В. Пик миновал? // Россия в глобальной политике. 2020. Т. 18. № 3 (103). С. 222–233.
-
3. Шинковский М.Ю. Проблемы типологии акторов трансграничного региона // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2010. № 4 (12). С. 10–14.
-
4. Бляхер Л.Е., Обирин А.И. Дальний Восток: инструкция по использованию или зачем России Дальний Восток // Реги-оналистика. 2019. Т. 6. № 3. С. 13–30. 10.14530/reg.2019.3.13.
-
5. Швецов А.Н. «Точки роста» или «черные дыры»? (К вопросу об эффективности применения «зональных» инструментов госстимулирования экономической динамики территорий) // Российский экономический журнал. 2016. № 3. С. 40–61.
-
6. Шаолэй Ф., Хэн Ц. Развитие Дальнего Востока и китайско-российские отношения: новое видение и новые подходы [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2019. 30 сент. URL: https://globalaffairs.ru/articles/razvitie-dal-nego-vostoka-i-kitajsko-rossijskie-otnosheniya-novoe-videnie-i-novye-podhody/ (дата обращения: 01.10.2020).
-
7. Караганов С., Лихачева А. Почему буксует «поворот на восток» и как это исправить [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2020. 16 окт. URL: https://globalaffairs.ru/articles/pochemu-buksuet-povorot/ (дата обращения: 01.11.2020).
-
8. Лукин А.В. Указ. соч. С. 222–223.
-
9. Программа развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018–2024 гг. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства коммерции Китайской Народной Республики. URL: http://russian.mofcom.gov.cn/article/speech-
header/201811/20181102808776.shtml (дата обращения: 01.10.2020).
-
10. Внешняя торговля субъектов РФ ДФО // Официальный сайт Дальневосточного таможенного управления ФТС РФ. URL: http://dvtu.customs.gov.ru/folder/143395 (дата обращения: 01.10.2020).
-
11. Шаолэй Ф., Хэн Ц. Указ. соч.
Редактор: Грицай Екатерина Анатольевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Китай и развитие дальневосточных регионов РФ: ожидания и действительность
- Малявин В.В. Путь "невидимого гегемона" // Россия в глобальной политике. 2018. Т. 16. № 5. С. 66-75
- Лукин А.В. Пик миновал? // Россия в глобальной политике. 2020. Т. 18. № 3 (103). С. 222-233
- Шинковский М.Ю. Проблемы типологии акторов трансграничного региона // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2010. № 4 (12). С. 10-14
- Бляхер Л.Е., Обирин А.И. Дальний Восток: инструкция по использованию или зачем России Дальний Восток // Регионалистика. 2019. Т. 6. № 3. С. 13-30. DOI: 10.14530/reg.2019.3.13
- Швецов А.Н. "Точки роста" или "черные дыры"? (К вопросу об эффективности применения "зональных" инструментов госстимулирования экономической динамики территорий) // Российский экономический журнал. 2016. № 3. С. 40-61