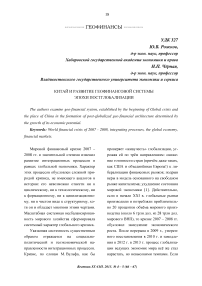Китай и развитие геофинансовой системы эпохи постглобализации
Автор: Рожков Ю.В., Чрная И.П.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Геофинансы
Статья в выпуске: 4-5, 2013 года.
Бесплатный доступ
Авторы рассматривают геофинансовую систему, созданную в начале глобального кризиса и место Китая в формировании постглобальной геофинансовой архитектуры, определяемой ростом ее экономического потенциала.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319787
IDR: 14319787
Текст научной статьи Китай и развитие геофинансовой системы эпохи постглобализации
Мировой финансовый кризис 2007 -2008 гг. в значительной степени изменил развитие интеграционных процессов в рамках глобальной экономики. Характер этих процессов обусловлен сложной природой кризиса, не имеющего аналогов в истории: его невозможно отнести ни к циклическому, ни к технологическому, ни к формационному, ни к цивилизационному, ни в чистом виде к структурному, хотя он и обладает многими этими чертами. Масштабная системная несбалансированность мирового хозяйства сформировала системный характер глобального кризиса.
Указанная системность существенным образом отражается на социальнополитической и геоэкономической направленности интеграционных процессов. Кризис, по словам М. Вульфа, как бы проверяет «живучесть» глобализации, угрожая ей по трём направлениям: снижение готовности стран (причём даже таких, как США и объединённая Европа!) к либерализации финансовых рынков; подрыв веры в модель основанного на свободном рынке капитализма; ухудшение состояния мировой экономики [1]. Действительно, если в начале XXI в. глобальные рынки производили и потребляли приблизительно 20 процентов объёма мирового производства (около 6 трлн дол. из 28 трлн дол. мирового ВНП), то кризис 2007 - 2008 гг. обусловил замедление экономического роста. После перерыва в 2009 г., умеренного восстановления в 2010 г. и замедления в 2012 г. в 2013 г. процесс глобализации ведущих экономик мира всё же стал нарастать, но невысокими темпами. Если ранее рост осуществлялся двумя разными «скоростями» – высокими темпами в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах и медленнее в странах с развитой экономикой, то в нынешних условиях произошло расслоение на три «скорости». Страны с формирующимся рынком и экономика развивающихся стран продолжают быстро расти, но среди стран с развитой экономикой усиливается расхождение по темпам роста между США, с одной стороны, и зоной евро – с другой [2].
Эксперты МВФ подчёркивают, что риски снижения темпов мирового экономического роста относительно прогноза всё ещё преобладают. Ведь сохраняются прежние риски и появляются новые, связанные с возможностью более длительного уменьшения активности в странах с формирующимся рынком, особенно с учётом опасности снижения темпов потенциального роста, замедления роста кредитования и, возможно, более жёстких финансовых условий, если ожидаемое сворачивание денежно-кредитных стимулов в США приведёт к устойчивому изменению направления потоков капитала [3].
Пессимизм прогнозов МВФ дополняет авторитетный эксперт в области глобальных финансов Нуриэль Рубини (США), предрекавший «идеальный шторм» глобальной слабости. В 2011 г., а затем в конце 2012 г. им показано, что ситуация в 2013 г. может оказаться гораздо более худшей, чем кризис 2008 года. Тогда удалось провести ряд мероприятий: понизить базовые ставки с 5 – 6 процентов до нуля, провести монетарные смягчения, создать налоговые стимулы с нагрузкой на бюд- жет до 10 процентов ВВП и даже гарантировать выплату антикризисной помощи. Сегодня очередные раунды количественного смягчения становятся всё менее эффективными, так как проблемы связаны не с нехваткой ликвидности, а с неплатёжеспособностью [4]. Налицо крах не только прежней системы мироустройства, но и неолиберальной модели глобализации конца XX века. Важными чертами той модели были: а) доминирующая роль США в мировой экономике; б) полное отделение в экономике финансовой сферы от производственной и связанное с этим наличие огромного количества ничем не обеспеченных финансовых активов; в) распространение вширь институтов либеральной демократии вне связи с тем, существуют ли для них необходимые условия и предпосылки и т.п. [5]. Причём разрушение биполярной модели мира (США – СССР) не привело к становлению однополярности (США) или новой биполярности (США – Китай). Возникшая многополярная модель мироустройства является симбиозом около двух сотен неодинаковых стран с разным уровнем формационного, то есть социального и экономического развития, не имеющих эффективной стратегии преодоления кризиса [6]. Под действием глобального кризиса на новом этапе экономической глобализации – постглобализации – выявляются несколько основных трендов, включая деиндустриализацию, новую бедность среднего класса, политические кризисы в так называемых «третьих странах», раздутые финансовые рынки и социальные обязательства [7]. Ключевая роль в развитии постглобализации принадлежит гео- финансовым факторам. Ш. Голдфингер считает, что геофинансы – новое финансовое пространство-время, игнорирующее законы географии и национальные границы; это синтез мировых денег, информационных технологий и либерализации законодательного регулирования [8]. Следовательно, в структурном плане геофинансы – это глобальная сеть традиционных и виртуальных, дематериализованных (дестафированных) финансовых рынков, функционирующих на них участников при организующей и ведущей роли интермедиаторов (посредников).
Геофинансовая система, сложившаяся к началу глобального кризиса, по своим масштабам и механизмам функционирования была результатом предшествовавшего этапа глобализации. Поэтому важной характеристикой геофинансов стало их развитие по своим собственным законам, что привело к отрыву от национальных финансовых систем, означающему частичное перемещение функций регулирования к мировым финансовым центрам, главным критерием экономической деятельности которых является максимальная прибыльность [9]. Поэтому мы определили геофинансы в виде совокупности экономических отношений, связанных с формированием, распределением, перераспределением и использованием национального и мирового дохода между субъектами глобальной экономики на основе финансово-кредитных, информационных и иных операций общего и частного свойства, отражающих одновременно мировые закономерности и специфику отдельной страны (региональных интеграционных союзов) в движении деста- фированных денежных фондов [10]. Развитие геофинансовых факторов глобализации многие исследователи считают причиной современных кризисов. Финан-сиализация, развернувшаяся вместе с поздним капитализмом и определяемая слишком малым количеством денег, вкладываемых в реальную экономику, действительно привела к новым глобальным рискам. О масштабах финансиализа-ции можно судить по величине прибылей американских корпораций. В 1970 г. на долю финансового сектора приходилось порядка 15 процентов, а к 2002 г. эта доля выросла до 42 процентов [11]. Н.А. Симония и А.В. Торкунов считают, что компьютеризация финансовой сферы стала грозным оружием массового финансовоэкономического разрушения, превратив финансовую систему в мощную самодовлеющую структуру, оторванную от реальной экономики, а потому характеризуемая в виде своеобразной «раковой опухоли» на теле экономики, распространяющей в организме свои метастазы [12]. Усиление геофинансовых факторов постглобализации особенно эффектно проявляется в процессе укрепления финансовых систем нового центра мировой политики – стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китай ещё не входит в число лидеров финансового развития по версии Мирового экономического форума (WEF), более того в 2012 г. страна опустилась на четыре пункта ниже позиции в рейтинге 2011 г. и заняла 23-е место. При этом по отдельным показателям рейтинг КНР значительно ниже: институциональная среда – 35-е место (включая либерализацию финансового сектора – 44-е ме- сто); деловая среда – 47-е место (включая налогообложение – 54-е место); доступ к финансированию – 41-е место и др. Однако по ряду показателей КНР находится на более высоких позициях: финансовые рынки – 17-е место, небанковский финансовый сектор – 4-е место (включая активность IPO Initial Public Offering – первая публичная продажа акций – 1-е место); финансовая стабильность – 20-е место (включая устойчивость валюты – 7-е место), риск кризиса суверенного долга – 7е место и т.д. [13]. Но именно Китаю в формирующейся геофинансовой архитектуре постглобализации отводится ключевая роль, определяемая ростом его экономического потенциала. Так, в 2007 году доля КНР в мировом валовом продукте (вычисленном по паритету покупательной способности) составляла 11 процентов, а в 2012 – 14,9 процентов. За это же время размер китайской экономики вырос с 52 процентов до 79 процентов от величины экономики США. В 2007-м экономика Китая была больше японской в 1,7 раза, а сейчас – в 2,7 раза. Однако положение формирующегося глобального лидера в условиях кризиса не оценивается однозначно. В конце 2012 г. и первой половине 2013 г. было опубликовано несколько знаковых для экономического сообщества прогнозов. В докладе «East Asia and Pacific Economic Update» Всемирного банка прогнозировался превышающий прежние ожидания рост экономики Китая в 2013 г. на 8,4 процента. При этом подчёркивалось, что восстановление темпов роста станет результатом действия фискальных стимулов и реализации масштабных инвестиционных проектов, од- нако в 2014 г. ожидается замедление роста до 8 процентов. Серьёзной угрозой развития являются риски, которые могут ухудшить перспективы АТР, а именно возможное торможение структурных реформ в еврозоне, пресловутый «бюджетный обрыв» в США и резкое замедление инвестиций в КНР [14]. В декабрьском (2012 г.) обзоре рынка и аналитики журнала «BusinessWeek», и эксперты показывали необходимость перебалансирования китайской экономики на основе её перевода с инвестиционного роста к росту за счёт потребления в сочетании с ужесточением условий кредитования. Замедление во второй половине 2013 г. неизбежно, так как Китай уже достиг той точки, «когда рост инвестиций и кредитов больше способствует не процветанию экономики, а, скорее, её уничтожению» [15]. В январе 2013 г. свой прогноз опубликовал Джон Дж. Ксенакис, который, выделяя КНР в составе шести наиболее кризисных для мировой экономики регионов, отметил наиболее высокую вероятность кризиса в этой стране, обусловленную её внутренними проблемами и возрастающим влиянием на глобальный финансовый рынок [16]. О возможной угрозе финансового кризиса в Китае говорит прогноз (март 2013 г.) японского банка «Nomura» – одного из главных экспертов по азиатской экономике. Банк выделяет несколько опасных симптомов подступающего к Китаю кризиса: сокращение потенциального роста, высокие цены на недвижимость и быстрое создание резервов. Такие же признаки наблюдались в Европе, США и Японии перед началом финансового кризиса 2008 года. Ключевые риски для ки- тайской экономики формируют власти провинций, небанковские финансовые институты и девелоперы. Серьёзную опасность имеет скорость роста госдолга. Он увеличился с 121 процента ВВП в 2008 г. до 155 процентов в 2012 г., что приближает Китай к выявленному в банке «Nomura» правилу «5 к 30»: перед финансовым кризисом показатель увеличивался за 5 лет примерно на 30 процентов ВВП. Так было в Японии, США в 1995 – 1999 гг. и 2003 – 2007 гг., а также в ЕС в 2006 – 2010 гг. [17].
По прогнозам (август 2013 г.) Транснациональной аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers», средние темпы экономического роста в Китае составят примерно 7,5 процента в год, что соответствует принятым правительством КНР целевым показателям, но ниже ожидаемых. Эксперты предсказывают осуществление стратегии опережения темпов роста потребительских расходов темпам роста производственной базы [18].
Сегодня очевидно, что лидерство и относительную финансовую устойчивость китайской экономике обеспечивают не случайные факторы, а реализация целенаправленной геофинансовой стратегии. Именно её оценка лежит в основе экспертных расчётов о возможности опережения Китаем США. Основой будущего первенства Китая, который за десять последних лет создал три новых экономики КНР, может стать укрепление юаня по отношению к доллару более быстрое, чем это происходит сейчас [19].
Серьёзным подтверждением усиления геофинансовых позиций Китая является рейтинг Top 1000 World Banks 2013 журнала «The Banker», в котором верхние по- зиции занимают китайские банки, показывающие сейчас максимальные показатели по прибыльности среди всех банков мира: Industrial & Commercial Bank of China (Промышленный и коммерческий банк Китая, доналоговая прибыль – 43,2 млрд дол., 70,7 процентов акций принадлежит государству); China Construction Bank (Строительный банк Китая, доналоговая прибыль – 34,8 млрд дол.), ставший в этом году вторым по величине активов и капитала банком страны; Bank of China (Банк Китая, доналоговая прибыль – 22,45 млрд дол., контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР) – старейший банк страны, основанный в 1912 г.; Agricultural Bank of China (Сельскохозяйственный банк Китая, доналоговая прибыль – 23,3 млрд дол.), имеющий отделения по всей территории страны, а также в Гонконге и Сингапуре. На финансовые учреждения КНР уже приходится 29,3 процента прибыли мировых банков, тогда как в 2007 г. показатель составлял только 4 процента. Сегодня рентабельность китайского банковского бизнеса гораздо выше, чем в США и еврозоне. Однако в рейтинге надёжности китайские финансовые учреждения пока уступают своим иностранным конкурентам, так как банки КНР находятся в первой десятке надёжных банков [20]. К тому же темпы роста прибыли ведущих китайских банков в 2012 г. резко сократились, став минимальными за последние несколько лет. Agricultural Bank of China в 2012 г. увеличил чистую прибыль лишь на 19 процентов. Для сравнения: в 2011 г. этот показатель равнялся 29 процентам. Рост чистой прибыли Bank of China составил лишь
12 процентов (против 19 процентов в 2011 г.), что стало минимальными темпами роста с 2006 года. Бизнес традиционных кредитных институтов страдает от политики Центробанка КНР (сокращение разницы между ставками по банковским кредитам и процентами по депозитам), от усилий китайских властей по развитию рынка облигаций и новых форм заимствований, сокращающих кредитный портфель банков, от роста популярности теневого банковского сектора для малого и среднего бизнеса в результате легализации деятельности трастов, обладающих активами с совокупным объёмом около 1 трлн дол. [21].
Особо следует отметить валютную политику КНР. На фоне сохраняющихся кризисных явлений в мировых финансах и «дедолларизации» национальных экономик Китай ускоряет процесс регионализации национальной валюты по следующим направлениям:
– использование преимуществ растущих масштабов торгово-экономического сотрудничества для расширения зоны обращения юаня в Азиатском регионе;
– повышение международной ликвидности юаня, в том числе посредством институциональных соглашений и формирования регионального рынка, обеспечивающего условия для выхода на международные финансовые рынки.
Сдерживающими факторами, как подчёркивает С. Ноздрёв [22], могут стать риски, обусловленные ограниченными возможностями КНР в регулировании международных потоков капитала и его недостаточно развитой системой участия в международных финансах. Вместе с тем, несмотря на действующие ограничения, в течение последних десятилетий юань фактически выполняет функции валюты обращения в приграничных с Китаем районах России и других государств.
Российские и китайские банки из приграничных регионов с 1 января 2005 г. начали осуществлять между собой расчёты в рублях и юанях, минуя долларовую переоценку. Основной причиной нововведений стало стремление участников рынка существенно уменьшить долю серых схем, применяемых при осуществлении сделок обеими сторонами, увеличить товарооборот между РФ и КНР, расширить ассортимент банковских услуг для корпоративных и частных клиентов российских приграничных кредитных организаций, имеющих внешнеэкономические связи с КНР. Официальное использование юаня в приграничной торговле началось с июля 2009 г., когда китайская валюта заметно усилила свои позиции как валюта расчётов с Россией, Вьетнамом, Монголией и КНДР. В основу проведения трансграничных расчётов между Народным банком Китая и центральными банками 12 стран положены подписанные в конце августа 2011 г. двусторонние соглашения на общую сумму 841,2 млрд юаней. Таким образом, расширение приграничной торговли уже сейчас закладывает необходимую основу для регионализации юаня, его использования не только в торговых, но и в других трансграничных операциях.
Китай демонстрирует геофинансовую стратегию, соответствующую концепции приграничного регионализма, реализуемой через механизмы расширения и ди- версификации форм приграничного сотрудничества в рамках политики «реформ и открытости», «выход вовне», программы построения «приграничного пояса открытости», региональных программ «освоения западных регионов», программ «подъёма и процветания старопромышленных баз» северо-восточных регионов КНР, программ конструирования экономических, транспортных и культурных приграничных коридоров, и др. [23]. Её реализация, несомненно, способствует росту объёма приграничной торговли. Объём китайско-российской торговли в 2012 г. составил 88,2 млрд долларов. К 2015 г. планируется увеличение товарооборота между двумя странами до 100 млрд долларов. Особую роль в развитии товарооборота играет приграничная торговля. Так, объём экспорта провинции Хэйлунцзян в Россию занимает около 24 процентов от общего показателя.
Вместе с тем развитие приграничного сотрудничества сдерживается некоторыми негативными моментами. Часть из них имеет традиционный для российско-китайской торговли характер и обусловлена сырьевой структурой экспорта России, деформированностью экономики приграничных субъектов РФ, неразвитостью приграничной инфраструктуры, несовершенством нормативной базы, в том числе межбанковских отношений. Другая часть определяется влиянием современного глобального кризиса и его последствий, включая изменение валютных курсов и покупательской способности населения, рост «серого» импорта, изменение внутреннего спроса и др. К тому же усиленный рост КНР не снимает проблемы на- циональной безопасности для России. Г.В. Андреев отмечает, что при нынешних темпах экономического развития к 2020 г. ВВП России будет в 4 – 5 раз меньше китайского, а такое отставание создаст стратегические вызовы малонаселённым регионам Сибири и Дальнего Востока и ослабит геополитические позиции России в АТР [24]. Если говорить о банковской сфере, то в настоящее время кредитные организации Китая продолжают экспансию на российский финансовый рынок. Сегодня в РФ работают два крупнейших банка КНР: Bank of China (16-е место в мире по активам) и China Construction Bank (14-е место). Отражением этого процесса является открытие в начале 2013 г. приморского филиала Банка Китая (ЭЛОС) во Владивостоке. Это второй филиал банка ЭЛОС на российском Дальнем Востоке. Первый открылся летом 2012 г. в столице Дальневосточного федерального округа – г. Хабаровске.
Банк Китая – Bank of China – один из крупнейших национальных банков КНР; его филиалы функционируют в 35 странах мира. Банк в 2012 г. отметил столетний юбилей. В этом году исполнится 20 лет его банку со 100-процентным китайским капиталом в Москве (ЭЛОС – ELUOSI).
На открытии филиала во Владивостоке президент ЭЛОС Чжао Ляньцзе заявил, что главные цели приморского филиала заключаются в дальнейшем развитии торговоэкономических отношений между РФ и КНР в целом, и приграничного сотрудничества в частности, содействие привлечению китайских инвестиций в развитие экономики Приморья, а в будущем расширение географии охвата российских территорий [25].
Таким образом, глобальная экономика стоит на породе дальнейшего укрепления позиций Китая как в мире, так и на рынке Российской Федерации.
Список литературы Китай и развитие геофинансовой системы эпохи постглобализации
- Wolf M. Financial crisis tests durability of globalization // Financial times. 2008. October 10. // us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto100920081302015288 (дата обращения: 14.05.2013 г.).
- World economic outlook: a survey by the staff of the International Monetary Fund. Washington, DC: International Monetary Fund, 2013.//www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/textr.pdf (дата обращения: 27.08.2013).
- Перспективы развития мировой экономики. Бюллетень основных прогнозов ПРМЭ. 9 июля 2013 г.//www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2013/update/02/pdf/0713r.pdf (дата обращения: 29.08.2013 г.).
- Рубини, Н. «Идеальный шторм» разрушит мировую экономику/Н. Рубини//www.vestifinance.ru/articles/19902 (дата обращения: 10.07.2013 г.).
- Господин кризис, как вас теперь называть?//ПОЛИС. 2009. № 3. С. 9 -33.
- Симония, Н. А. Глобализация и проблема мирового лидерства/Н. А. Симония, А. В. Торкунов//Международная жизнь. 2013. № 3; URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1630 (дата обращения: 10.07.2013 г.).
- Рожков, Ю. В. Инновационный вектор развития геофинансов эпохи постглобализации/Ю. В. Рожков И. П. Чёрная//Безопасность Евразии. 2012. № 2. С. 263 -264.
- Goldfinger Ch. Innovation in Financial Services//Communications & Strategies, No. 48, 4-th quarter 2002. Рp. 139 -160.
- Кочетов, Э. Г. Геоэкономический подход к внешнеэкономической стратегии России на современном этапе/Э. Г. Кочетов//Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2011. № 10. С. 23 -29.
- Рожков, Ю. В. Инновационный вектор развития геофинансов эпохи постглобализации/Ю. В. Рожков, Рожков, И. П. Чёрная//Безопасность Евразии. 2012. № 2. С. 265.
- Что ждёт мировую экономику?//Международная жизнь. 2013. 27 июля; URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=9844 (дата обращения: 28.07.2013 г.).
- Торкунов, А. В. Финансовые аспекты и социальные последствия структурного кризиса в США/А. В. Торкунов, Н. А. Симония//Мир и политика. 2013. URL: http://mir-politika.ru/3727-finansovye-aspekty-isocialnye-posledstviya-strukturnogo-krizisa-v-ssha.html (дата обращения: 31.08.2013 г.).
- The Financial Development Report 2012. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopmentReport_2012.pdf (дата обращения: 11.08.2013 г.).
- World Bank: East Asia and Pacific Economic Update, December 2012 -Remaining Resilient. URL: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/12/28/000386194_20121228033822/Rendered/PDF/NonAsciiFileName0.pdf (дата обращения: 25.08.2013 г.).
- 2013 Forecasts From Around the World//Bloomberg Businessweek. Global Economics. 2012. December 20. URL: http://www.businessweek.com/articles/2012-12-20/2013-forecasts-from-around-the-world (дата обращения: 27.08.2013 г.).
- Xenakis J.J. Updating Global Conflict Risk Assessment for China threat. URL: http://www.breitbart.com/Big-Peace/2012/12/31/1-Jan-13-World-View-2013-Forecast-Financial-Crisis-and-China-Threat (дата обращения: 28.08.2013 г.).
- Nomura: Китай стоит на пороге острого финансового кризиса. URL: http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3268138 (дата обращения: 28.08.2013).
- Global economy watch -September 2013. URL: http://www.pwc.co.uk/economic-services/global-economy-watch/summary-september-2013.pdf (дата обращения: 28.08.2013 г.).
- О'Нил Дж. Карта роста. Будущее стран БРИК и других развивающихся рынков. М.: Альпина Бизнес Букс, Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 11, 87.
- Top 1000 World Banks 2013. URL: http://www.thebanker.com/Landing-Pages/Top-1000-entries-2013/Top-1000-World-Banks-2013 (дата обращения: 29.08.2013 г.).
- Власти КНР мешают банкам увеличивать прибыль. URL: http://bankir.ru/novosti/s/vlasti-knr-meshayut-bankam-uvelichivat-pribyl-10039923/(дата обращения: 29.08.2013 г.).
- Ноздрёв, С. Юань и иена в валютной архитектуре Азии/С. Ноздрёв//Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 7. С. 41 -50.
- Кучинская, Т. Н. Открытый приграничный регионализм в глобальной стратегии Китая: уроки для России/Т. Н. Кучинская//Вестник Читинского государственного университета. 2011. № 1. С. 28.
- Андреев, Г. В. Проблемы обеспечения экономической безопасности российского Дальнего Востока и пути их решения/Г. В. Андреев//Право и безопасность. 2008. № 1. С. 76 -82.
- Дробышева, И. Юань на чёрный день/И. Дробышева//Российская газета. 2013. 29 марта; http://www.rg.ru/2013/03/29/valuta.html (дата обращения: 12.07.2013 г.).