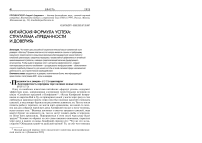Китайская формула успеха: стратагема «преданности и доверия»
Бесплатный доступ
Что может дать российской социополитической мысли заявленный ныне разворот к Востоку? Лучшим ответом на этот вопрос является отсылка к требующему серьезного теоретического осмысления феномену беспрецедентной жизнестойкости китайской цивилизации, свидетельствующему о чрезвычайной эффективности китайской цивилизационной стратегии, очевидно предполагающей наличие фундирующего ее алгоритма. Чтобы вывести формулу этого «алгоритма эффективности», следует поинтересоваться исконно китайскими – ортодоксально-конфуцианскими – объяснениями секрета подобной успешности, для начала, хотя бы в такой ключевой сфере человеческой деятельности как стратегическое взаимодействие.
Преданность и доверие, политическое бытие, мистифицирующий ориентализм, гексаграмма №61, игры на доверии
Короткий адрес: https://sciup.org/170211513
IDR: 170211513 | DOI: 10.56700/2071-5366.2025.67.28.007
Текст научной статьи Китайская формула успеха: стратагема «преданности и доверия»
« реданность и доверие» ( 忠信 ) гарантируют « П «Благоприятность переправы через великие водные потоки»
( 利涉大川 )
Одну из наиболее известных китайских «формул успеха» содержит эффектная кода, завершающая следующую поучительную историю из цикла «Семейных преданий о Конфуции»11: «Когда Конфуций возвращался из царства Вэй в Лу, он придержал коней у моста через реку и стал любоваться красивым видом: перед ним был водопад высотой в тридцать саженей, а вода вокруг бурлила на расстоянии девяноста ли. Там не могли плавать рыбы и черепахи, не могли жить крокодилы, но какой-то человек как раз собрался переплыть реку. Конфуций послал к нему человека, велев сказать ему: “Водопад достигает в высоту тридцати саженей, вода вокруг бурлит на девяносто ли, там не могут плавать рыбы и черепахи, не могут жить крокодилы. Переправиться в этом месте через реку будет трудно!” Человек не обратил на эти слова никакого внимания, переплыл через реку и вышел из воды. Конфуций спросил его: “Что же это за мастерство? Обладаешь какой-то даосской магией? То, за счёт чего можешь
[безбоязненно] входить [в воду] и [безбоязненно] выходить [из нее] – что это?” Мужчина ответствовал ему так: “Перед тем как войти, [проникаюсь] преданностью и доверием [к воде], когда же выхожу, по-прежнему блюду преданность и доверие. С преданностью и доверием располагаю своё тело на волнах и не смею внести ничего личного. Вот поэтому-то [я] способен и вступить в [водопад], и снова [из него] выйти”. Обращаясь к ученикам, Конфуций сказал: “Запомните это, вы, мои ученики! Если действовать с преданностью, доверием, со всей полнотой искренности, то можно сблизиться даже с водой, а тем более – с человеком”». [Конфуций, Сократ…2022: 121; Атеисты, материалисты… 1967: 122–123]12.
Стоит сравнить достаточно неожиданную по своей конфуцианской назидательности развязку с даосской версией этой же самой истории чудесной переправы, где совершенно по-иному объясняются причины её успешности. У Чжуанцзы пловец добивается поразительного успеха отнюдь не за счёт исповедуемого им (как в представленном мной ранее морализирующем варианте этого же сюжета) конфуцианского жизненного кредо («преданность и доверие» чжун синь 忠信 ), а лишь благодаря своей исключительно длительной, но в результате успешной адаптации к капризам речной стихии13.
Итак, согласно конфуцианской ортодоксальной доктрине, чудодейственным рецептом едва ли не на все случаи жизни является стратегия «преданности и доверия», свидетельствующая о глубочайшей вере китайских книжников в существование и незыблемость единого нравственного порядка и для природы, и для людей, в рамках которого и природа, и общество зиждутся на единой моральной основе.
При всей сомнительности смехотворно идеалистичного, на наш нынешний взгляд, хода, приводящего к единому знаменателю заведомо неантропоморфные законы природы и, увы, далеко необязательные моральные предписания (которые должны выполняться, но слишком часто беспоследственно нарушаются), всё же наибольшие вопросы вызывает сама возможность сколько-нибудь серьёзного обсуждения таких, как кажется, безнадежно устаревших понятий, как «преданность и доверие». Похоже, что к таким архаизмам (соответственно, к иллюстрирующим их фантастическим историям) не стоит относиться ни серьёзно, ни несерьёзно. Тут более всего будет уместна ироническая дистанцированность. Однако, если наша задача по-прежнему состоит в том, чтобы разгадать секрет китайской успешности, то мы не можем удовольствоваться отрешенной академической отстраненностью, тем более постмодернистской иронией. Напротив, мы должны с полной серьёзностью отнестись к тем двум волшебным словам, которые магистральное течение китайской философской мысли идентифицировало как универсальную формулу успеха. Иначе говоря, попытаться по-настоящему вникнуть в причины той святой серьёзности, с которой в прошлом (а отчасти и в настоящем) китайцы относились к обоим упомянутым выше словам, как бы архаично они ни звучали для нас сейчас. Но как можно было бы вернуть достойное значение давно стершимся словам?
Прежде всего, заметим, что если для современного западного человека все эти апелляции к ходячей морали, будучи взяты вне религиозного контекста, просто смешны, то в глазах традиционно мыслящего китайца14 «преданность», как не только первенствующее, но и определяющее слово-детерминатив в дуэте «преданность и доверие» – это, напротив, одно из имён предельной серьёзности. Дело в том, что весь пафос идеограммы 忠 ( чжун «преданность»)15 как раз таки и призван со всей возможной силой выразить идею максимальной вовлечённости, вседушной захвачен-ности человека во всей его полноте (букв. – до исчерпания глубинного средоточия всего его существа, до самой его сердцевины), не оставляющей таким образом места для малейшей фальши16.
О степени серьёзности понятия, изображаемого иероглифическим биномом и лишь весьма условно передаваемого в русском языке синонимичным рядом таких слов, как «верность», «преданность», «честность», соответственно – «доверие, искренность, (благо)надёжность, подлинность», красноречивей всего свидетельствует их очевидная про-изводность от одной из важнейших категорий китайской традиционной мысли. Именно эта категория даёт данной понятийной паре её закон, её начало. Так что «преданность и доверие» можно с полным основанием считать своего рода «инициалами» имени Гексаграммы №61 – «Внутрен- няя (букв. «сердцевинная») искренность»17 Чжун фу 中孚 [Чжоу И чжэнъи 1935: 71]. Здесь «сердцевинность» указывает на сердце (две центральные черты), а «искренность» понимается в первую очередь как свобода (изображаемая прерванностью этих черт) этого сердца не только от любой предвзятости, но и от малейшего эгоизма/самости.
Политика как бытие всерьёз и онтологические координаты политического (das Politische) в китайской мысли
До сих пор имеет достаточно широкое хождение застарелое историко-философское заблуждение (пожалуй, наиболее чётко и развернуто проартикулированное М. Вебером), согласно которому конфуцианство, представляя собой разновидность азиатской «политической религии», напрочь лишено какой-либо философской глубины и нацелено исключительно на идеологическое обоснование и легитимацию государственного порядка и бюрократии. Не останавливаясь сейчас на демонстрации более чем банальной поверхностности скороспелых обобщений, а также совершенно элементарных нестыковок, которыми грешит эта, восходящая, по меньшей мере, ещё к Гегелю позапрошловековая мифология, сфокусируемся на ключевом эпитете «политический». К сожалению, общая консенсусность в отношении этической, политической и, вообще практической сверхдетерминированности изначальной, а впоследствии и традиционной китайской мысли неразлучна со столь же устоявшейся трактовкой этой бросающейся в глаза социально-политической ориентации китайской мысли как якобы неопровержимого свидетельства философской ущербности, интеллектуальной приземленности и уж в любом случае недотеоретичности этой мысли18.
Разумеется, если понимать «политику» в упрощенно-сниженном смысле, ограничиваясь лишь её видимой стороной – дезориентирующим многообразием политической практики (международная дипломатия, государственное управление, законодательная и административная деятельность, межпартийная борьба за власть и влияние и т. п.), то такое уплощенно-поверхностное её понимание действительно лишено философского интереса. Но роль политики как специфической модальности человеческого бытия слишком велика, и она вовсе не сводится лишь к успешной ловкости тактического манёвра в горизонте сиюминутной конъюнктурности. Природа политического (das Politische), несомненно, обладает своей собственной философской значимостью. В частности, пребывание в сфере политического, как основная возможность и отличительный для человека способ бытия, предполагает собственно поли- тическое бытие, что позволяет говорить о «политической онтологии»19. Характеристическое свойство этой онтологии состоит в том, что она не просто представляет собой всего лишь один из теоретически возможных модусов человеческого существования, а в том, что она является для человека наиважнейшим из всех его способов «быть». Потому что именно политика, и только она, представляет собой по-настоящему «бытие всерьёз». В чём же эта эксклюзивная серьёзность политического бытия? Ответ на этот вопрос даёт предложенное К. Шмиттом определение понятия «политического», в центр которого выдающийся германский мыслитель поместил фигуру врага с исходящей от него смертельной угрозой самому нашему существованию20.
Неудивительно, что китайский философ, будучи в первую очередь и по преимуществу политическим философом, рассуждал о мире и о человеке в заострённо политическом измерении. Онтологические координаты этой сферы политического хорошо известны – их задаёт конституирующая всё пространство китайского дуалистического мышления фундаментальная пара когнитивных осей Инь и Ян , образующих нерасторжимое единство двух связанных антагонистическим напряжением противоположностей.
Как в научной, так и в популярной литературе обычно акцентируется взаимодополнительность и взаимосбалансированность Инь-Ян полярно-стей21. В таком идиллическом (чтобы не сказать слащавом) истолковании Инь-Ян оптика выгодно отличается от мрачноватой картины22 смертельно конфликтующих друг с другом противоположностей в рамках западноевропейского взгляда на мир эпохи модерна. Действительно, поскольку в нескончаемом споре между тёмной и светлой частями китайской двоицы никогда нет места окончательной победе одной над другой, соответственно – завершению нескончаемой игры между ними – постольку никакая степень антагонистического напряжения не способна вывести ни одну из них – за счёт радикального устранения своего оппонента – за пределы этой борьбы. При всём том всё же не стоит забывать, что их соперничество подчас приобретает весьма ожесточённые формы. Недаром магистральный нарратив Даодэцзина (道德經), в котором бытийственная сторона двоицы Инь-Ян, обнаруживающая себя в причудливой игре-вза-имозависимости (вплоть до противоборства), связывающей присутствие/ бытие (ю 有) и существование (цунь 存) с отсутствием/небытием (у 无) и гибелью/исчезновением (ван 亡), высвечена с беспрецедентной для всего китайского философствования глубиной и отчётливостью, напрочь лишён какой-либо благостности, зато тема полемологии, напротив, звучит во весь голос. Онтология конфликта, вынуждающая мыслить рассматриваемое в политическом ракурсе бытие23 во всей его тотальности и проблематичности (опасной близости к небытию в контексте озадачивающе нерасторжимого переплетения бытия и небытия), с неизбежностью заставляет Лаоцзы (老子) обращаться к метафорам и аналогиям, почерпнутым из военной сферы, постоянно презентировать свои стратагемные откровения в терминах «борьбы» и «выигрыша/проигрыша» в этой борьбе.
Политическая эффективность: мистифицирующий ориентализм
Рассуждая о концепции политической эффективности в китайском её понимании, нельзя обойти вниманием одну из популярных, но, увы, карикатурных её трактовок, обозначившихся в контексте такой любопытной разновидности современного интеллектуального фастфуда как «евродаосизм»24. В основе этой постмодернистской версии китайского понимания эффективности – радикальное, но при этом до смешного упрощённое противопоставление европейской и китайской концептуализаций как самого смысла «результативности» (политического и военного действия), так, соответственно, и способов её достижения25.
Главным «методологическим» открытием, якобы дающим ключ к постижению чудодейственной эффективности стратегической мысли Древнего Китая, становится немудреная идеология «самотека»26, прямиком возводимая к простовато-дословному27 – иногда с квазифилософскими «пояснениями»28 – прочтению постулата Лаоцзы о вседетельном недеянии, отличающим Дао29.
Стратагема «преданности и доверия» как стратегическая панацея
Если Лаоцзы , обсуждая вопросы стратегии, транслирует властный дискурс с полной откровенностью, то конфуцианцы в лице, например, такого своего виднейшего (второго после Конфуция!) представителя, как Мэнцзы , гораздо осторожнее в обнаружении именно стратагемного характера своих звучащих подчёркнуто высокоморально рекомендаций. Тем не менее, подлинную (т.е. стратегическую) направленность внешне предельно филантропических призывов выдаёт их недвусмысленно политически мотивированный – т.е. ориентированный на борьбу за власть – контекст.
Неспроста, несмотря на всю свою моральную привлекательность, прославленные конфуцианские добродетели30 (в первую очередь, «человеколюбие» 仁 и «справедливость» 義 ) внушали нешуточные опасения современникам, вызывая у них небезосновательные подозрения в неискренности и манипулятивности подобных благостных призывов31.
«Преданность и доверие» тут не исключение. Пронизывающий оба этих слова дух благонравия, благонадёжности и вообще добропорядочности не должен вводить в заблуждение. У Мэнцзы (孟子) они представляют собой не что иное, как исходный (и потому важнейший) шаг в отстаиваемой великим конфуцианцем стратегии глобального политического доминирования, лишь слегка закамуфлированной морализаторской риторикой. Напомню чеканную формулировку этого знаменитого двухчастного алгоритма овладения/управления Поднебесной: «Уважение к своим старцам распространите и на чужих старцев, а жалость к своим младенцам – ко всем другим, и тогда всю Поднебесную сможете держать у себя, как в ладони Лао у лао и цзи жэнь чжи лао, ю у ю и цзи жэнь чжи ю; тянься кэ юнь юй чжан 老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼;天下可運于掌» [Мэн-цзы 1999: 23]. Здесь «уважение» и «жалость» к своим старцам и мла- денцам, представляющие собой первый шаг согласно этой инструкции, на самом деле отсылают всё к тому же понятию «преданности» – требованию неуклонного соблюдения предписаний, диктуемых той или иной из взятых на себя (или предзаданных) социальных ролей – в данном случае обязанностей младшего по отношению к старшим («относиться к старикам как к старикам») и vice versa («относиться к молодым как к молодым»).
Искренность как пустотность
С точки зрения политической результативности подобная стратегия «мягкой силы» вполне рациональна и по нынешним меркам даже тривиальна, а самое главное – в отличие от упомянутой ранее сомнительной философии евродаосского «самотека» (утопической вседетельной бездеятельности) максимально удобопостижима. Но вот что по-прежнему остаётся тревожащей загадкой, так это причины появления самого сказочного сюжета демонстрации сверхчеловеческих способностей по успешному преодолению непреодолимых водных преград, казалось бы, равнодалекого как от морали, так и от политики, и, тем не менее, преподносимого китайской традицией в качестве чуть ли не канонического примера абсолютной действенности32 сколь азбучных, столь же и банальных духовно-нравственных ценностей «преданности и доверия»?
Тут, конечно, может показаться несколько удивительным, что искренность в контексте гексаграммы «Внутренняя искренность» конкретизируется (среди прочего) образом вместительной пустотности ( сюй 虚 ) судна ( чжоу 舟 ) – вместительность которого как раз и позволяет ему служить средством переправы. Постановка в один ряд таких, казалось бы, несопоставимых вещей, как, с одной стороны, психологическая характеристика личности (свобода от предвзятости и эгоизма), а с другой – довольно специфическая конфигурация материальных объектов (только и позволяющая им выполнять функцию вместилища), даёт удивительную возможность разглядеть в «снаружи сплошном, а внутри полом»33 гештальте
Чжун фу визуализацию как всецело абстрактной идеи искренности, так и «весомо грубо зримо» явленного образа спасительного корабля.
Итак, ключ к разгадке внезапного возникновения темы бесстрашного пловца среди бушующих волн как парадигмальной иллюстрации важнейших ценностных идеалов китайской нации – в текстовом обрамлении гексаграммы №61 «Внутренняя искренность»34, отвечающей за эти самые идеальные ценности прошлого. Ведь образ успешной переправы как в «Каноне Перемен», так соответственно и во всей интеллектуальной культуре Китая – это эмблематическая фигура успешного преодоления трудностей. То есть, в некотором смысле это метафора успешности (т.е. «эффективности») как таковой.
Тайна этого успеха в главном послании «Внутренней искренности», фиксируемой уже самим именем этой, удостоившейся отдельного упоминания «Комментарием привязанных слов» категории, а именно в искренности , только и способной внушать доверие не только окружающим людям, но и – если верить открывающей данную статью истории про искусного пловца – даже природным стихиям. Своей успешностью в «переправах через бурные потоки», и вообще всеми своими победами над разного рода испытаниями, согласно ортодоксальной комментаторской традиции, сложившейся вокруг гексаграммы №61 «Внутренняя искренность», мы обязаны силе (взаимного) доверия. Действительно, вспомним объяснение пловцом причин своего успеха: «Перед тем как войти, [проникаюсь] преданностью и доверием [к воде], когда же выхожу, по-прежнему блюду преданность и доверие. С преданностью и доверием располагаю свое тело на волнах и не смею внести ничего личного. Вот поэтому-то [я] способен и вступить в [водопад], и снова [из него] выйти». Следует особо подчеркнуть тот решающий момент, что здесь мы имеем дело именно что со взаимным доверием – храбрый ныряльщик с беззаветной преданностью водной стихии вверяет себя её бурлящим волнам, и она симметрично отвечает несомненным доверием, позволяя ему, чуть ли не вопреки законам своего враждебного человеку естества, благополучно выйти на берег. Недаром, итожащий вердикт «учителя 10 тыс. поколений» – «если действовать с преданностью, доверием, со всей полнотой искренности, то можно сблизиться даже с водой, а тем более – с человеком» – фактически возводит стратагему «преданности и доверия» в ранг своего рода стратегической панацеи.
Напрашивается вопрос, насколько серьёзно можно отнестись к наделению хотя и неоспоримой, но за давностью лет отнюдь не блещущей новизной35 этической максимы столь высоким инструментальным статусом? Для ответа на этот естественный вопрос, наверное, стоит обратить внимание на отмеченное мной ранее своеобразие той всецело заточенной на генерирование эффекта доверия искренности, желанным плодом которой оказывается выигрыш во всевозможных «играх на доверии»36. Поскольку пловец и вода доверились друг другу, то они действовали со-обща37 и потому человеку удалось победить враждебность стихии38 в этой исходно некооперативной игре. Достижение такого доверия – заслуга пловца, сумевшего заслужить доверие слепой стихии благодаря умелому применению стратегии искренности, визуализированной срединной пустотностью (две прерванные черты) гексаграммы «Внутренняя искренность». Данная гексаграмма изображает и концептуализирует идею искренности («корень искренности» согласно чёткой аттестации Чэн И) в виде незаполненности-открытости сердца (т.е. сердцевины личности) в смысле его свободы не только от малейшей предвзятости, но и от эгоизма, т.е. в некотором смысле от собственной самости. Подобная намеренная пустотность искренности превращает её незаменимый инструмент стратегического взаимодействия, при котором успех игрока зависит от действий других игроков, а не только от его собственных решений. В таких случаях превосходство в умении ставить себя на место другого – искусней играть в рефлексивную игру «я думаю, что он думает, что я думаю» – становится решающим фактором выигрыша. Понятно, что в рефлексивных играх данного типа, когда противники старательно имитируют рассуждения друг друга, преимущество будет на стороне того из них, у кого окажется больше пространства открытости – свободы для незамутненного восприятия внутреннего состояния своего оппонента, соответственно, безошибочного воспроизведения его мыслительных ходов.
Более того. Проникновение в когнитивные диспозиции и эмоциональный настрой своего визави ценой отказа от собственной самости, в конечном счёте, может кульминировать в эффективнейшую стратегию завоевания всеобщего доверия. Её формула на заре христианской веры была выведена величайшим стратегом-миссионером всех времён и народов: «для всех стать всем»39.