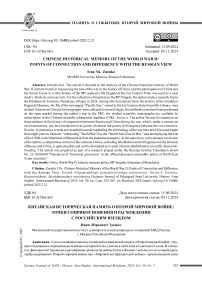Китайская историческая память о Второй мировой войне: точки соприкосновения и расхождения с российским взглядом
Автор: Зуенко И.Ю.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Память о событиях Второй мировой войны
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу китайской исторической памяти о Второй мировой войне, текущим тенденциям в переоценке роли войны в истории Китая, участии в ней Китая и Советского Союза. В частности, фиксируются тенденции к расширению хронологии войны Китая и Японии с восьми лет до четырнадцати, «ребрендирования» Второй мировой войны как «Мировой антифашистской войны», приуменьшения роли СССР в деле освобождения Маньчжурии от японских оккупантов. Автор вводит в отечественную научную дискуссию на данную тему ряд новых источников, переведенных с китайского языка, а также фокусирует свое внимание на тех сюжетах в общей истории сотрудничества России и Китая в годы Второй мировой войны, которые могут рассматриваться не как точки соприкосновения, а как точки расхождения двух стран. При этом, по глубочайшему убеждению автора, компромиссная версия общей истории, исключающая фальсификации и ущемление интересов России и Китая, вполне возможна и может быть выработана в результате активизации двухсторонней научной дискуссии. Финансирование. Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта по гранту Российского научного фонда № 23-18-00109 «Нарративы “исторических обид” в официальном дискурсе и государственной политике стран Северо-Восточной Азии».
Китай, Вторая мировая война, политика исторической памяти, 88-я бригада, освобождение Маньчжурии
Короткий адрес: https://sciup.org/149147764
IDR: 149147764 | УДК: 94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.21
Текст научной статьи Китайская историческая память о Второй мировой войне: точки соприкосновения и расхождения с российским взглядом
ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
DOI:
Цитирование. Зуенко И. Ю. Китайская историческая память о Второй мировой войне: точки соприкосновения и расхождения с российским взглядом // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 255–267. – DOI:
Введение. В последние годы в Китае наметилась тенденция к корректированию исторических нарративов, которые сейчас должны соответствовать возросшему статусу Китая на мировой арене. Этот процесс можно проследить на многих примерах наиболее показательным является, пожалуй, принятие в 2021 г. «Решения Центрального комитета Коммунистической партии Китая по основным достижениям и опыту столетней борьбы партии», которое обобщило и представило новые официальные трактовки истории Китая последних полутора веков (фактически с конца XIX в., когда были заложены предпосылки последующего создания компартии) [9]. Неизбежной частью указанного процесса является переосмысление истории отношений с Россией. Учитывая, что на данный момент отношения двух стран достигли уровня, справедливо характеризуемого руководителями и России, и Китая как «лучшие отношения в истории» [22; 27], крайне актуальной задачей представляется отслеживание и анализ изменений в китайских представлениях о нашей стране и ее роли в развитии Китая.
Практическим аспектом этой задачи является выделение тех сюжетов из общего прошлого, популяризация которых может являться своего рода фундаментом для дальнейшего развития партнерских отношений. Справедливо считается, что одним из таких сюжетов (если данный термин можно использовать для обозначения такого масштабного события) является совместная борьба СССР и Китая против японского милитаризма в годы Второй мировой войны. Однако необходимо понимать, что формируемые политикой исторической памяти китайские оценки этого события (как и историческая память любой другой страны) отличаются своей спецификой 1.
Цель данной статьи – установить эту специфику, наметить точки соприкосновения (или, наоборот, расхождения) китайского и российского взгляда на Вторую мировой войну, роль обеих стран в ней.
Методы и материалы. Учитывая объемность и важность поставленной во введении задачи, автор не считает, что данная статья может оцениваться как исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Скорее, данная работа видится как дополнение к ранее уже опубликованным трудам коллег [4; 7; 14; 16; и др.], а также как средство включения в отечественную академическую дискуссию ряда недавно опубликованных китайских работ [28–31]. В данном контексте важно подчеркнуть, что количество китайского историографического материала по теме Второй мировой войны таково, что рассмотреть его в рамках одной журнальной статьи невозможно. Расширение количества историографических источников, вовлеченных в научный анализ, является направлением дальнейшей работы автора над этой темой – прежде всего в контексте изучения 88-й интернациональной отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта, история которой в данной статье используется как показательный кейс для рассмотрения точек соприкосновения / расхождения российского и китайского взгляда на Вторую мировую войну.
В рамках сбора материала по 88-й бригаде автором в 2024 г. совершена исследовательская поездка в Хабаровский край (с. Вятское), в ходе которой изучены материалы архива Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродеко-ва, подшивка газеты «Тихоокеанская звезда», хранящаяся в Дальневосточной государственной научной библиотеке, проведены беседы с сотрудниками администрации Елабужского сельского поселения, отвечающими за мемориальную работу в селе Вятское. Источники по китайской историографии были собраны в несколько этапов: рассмотренные учебные пособия были приобретены в свободной продаже в ходе поездки автора в КНР, изученные научные монографии доступны по подписке в китайской базе научной информации CNKI. Их анализ производился с помощью общенаучных методов исследования (обобщение, синтез, дедукция, индукция).
Анализ. Место Второй мировой войны в истории Китая. Для начала необходимо дать краткий обзор тому, как Вторая мировая война воспринимается в Китае.
Важнейшим элементом этого восприятия является то, что Вторая мировая война для Китая началась не 1 сентября 1939 г., а 7 июля 1937 г. с нападением милитаристской Японии на чанкайшистскую Китайскую Республику. Японо-китайская война 1937–1945 гг. (в Китае ее называют также «Война сопротивления Японии» ФИО ЙОили же «Восьмилетняя война сопротивления» АФШ^ ) с точки зрения Китая является неотъемлемой частью Второй мировой войны и в литературе никоим образом не отделяется (с точки зрения подсчета потерь, влияния на конфигурацию сил сторон) от европейского или тихоокеанского театров военных действий (см., например: [28, c. 2–3]).
Существует (и в последнее время набирает популярность) такая точка зрения, что войну с Японией нужно отсчитывать от «Мукденского инцидента» 18 сентября 1931 г., после которого началась японская оккупация Маньчжурии. Таким образом, все последующие агрессивные действия Японии против Китая: «Шанхайский инцидент» и создание на территории Маньчжурии марионеточного государства Маньчжоу-го в 1932 г., вторжение в провинцию Жэхэ в 1933 г. и Внутреннюю
Монголию в 1933–1936 гг.) следует рассматривать как единый процесс, «Четырнадцатилетнюю войну сопротивления» (+ш^ш) [6].
Датой окончания войны является 2 сентября 1945 г., когда союзниками по Антигитлеровской коалиции и поверженной Японией был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. А 3 сентября в КНР отмечается как День победы китайского народа в войне сопротивления Японии (ФЕАЙй Э iO МАА 0).
Любопытно, что в Китае подверглась переосмыслению не только датировка Второй мировой войны, но и ее название – в официальных документах все чаще и чаще говорится о «Мировой антифашистской войне» WS»®» (см., например: [28]), причем данная тенденция фиксируется с начала 2010-х гг. [14, c. 113]. Как отмечает Я.В. Лек-сютина, это призвано способствовать решению трех взаимосвязанных задач в русле курса на обновление исторического нарратива: преодолению европоцентричного взгляда на Вторую мировую войну, содействию переоценки вклада Китая в победу над фашизмом, приведению мирового исторического нарратива о Второй мировой войне в соответствие с возросшей ролью Китая в мире [21].
Война с Японией в истории Китая привела к целому ряду последствий, важнейшим из которых является усиление Коммунистической партии Китая (далее – КПК) и ее вооруженных сил (будущей Народно-освободительной армии), что в последующие годы позволило ей победить в гражданской войне против партии Гоминьдан 1946–1949 гг. и основать Китайскую Народную Республику. Ввиду этого для нынешней политической элиты КНР история участия китайских коммунистов в войне имеет особое значение – во многом именно на ней базируется легитимность правления китайских коммунистов, поскольку именно они в эти годы проявили себя наиболее эффективной патриотической силой, способной преодолеть череду национальных унижений Китая, длящихся с начала «опиумных войн» в середине XIX века.
Все это определяет пристальное внимание к историографии участия Китая во Второй мировой войне (Войне сопротивления Японии) на уровне академической, учебно-воспитательной, музейно-просветитель- ской работы. Резюмируя имеющиеся материалы 2, можно выделить следующие базовые тезисы, описывающие Вторую мировую войну и роль Китая в ней:
– Вторая мировая война – это война империалистических держав за передел мира, в которую были включены бывшие колониальные и полуколониальные державы (в том числе Китай);
– в процессе войны бывшие колониальные и полуколониальные державы доказали свое право на самостоятельное существование;
– для китайского народа Вторая мировая война стала решающим моментом, в котором определялась сама возможность дальнейшего независимого существования;
– поскольку Война сопротивления Японии является неотъемлемой частью Второй мировой войны, а ее ход повлиял на развитие событий на других театрах военных действий, следует особо помнить, что Китай воевал дольше всех среди всех участников Антигитлеровской коалиции и при этом понес наибольшее число жертв среди мирного населения.
– значение героической борьбы Китая заключается в том, что именно она задержала развитие японской агрессии и позволила СССР и США сконцентрироваться на борьбе с Германией.
Отдельно следует остановиться на китайских оценках числа погибших в результате войны с Японией, потому что сам факт огромных потерь среди комбатантов и мирного населения, наложенный на историческую память о японских военных преступлениях на территории Китая, играет важнейшую роль в нынешней внутренней и внешней политике Пекина. Он обусловливает определенную «обиду» Китая по отношению как к Японии, которая явилась причиной трагических событий, так и к другим членам мирового сообщества, которые «не замечают» или «недостаточно признают» героический вклад китайского народа в окончательную победу Антигитлеровской коалиции. Это в том числе питает националистические настроения реваншизма 3, распространение которых в Китае хорошо заметно [10, c. 42–59].
Разброс оценок количества погибших в Китае в годы Второй мировой войны составляет от 20 до 35 млн чел. убитыми и ранены- ми. Соотношение числа погибших среди комбатантов и мирных жителей таково: 1 324 500 – комбатанты (для сравнения: СССР – более 11 млн чел.), 33 700 000 – мирные жители 4. Столь широкий диапазон цифр определен продолжительностью конфликта (и его размытыми рамками), а также слабостью центральной власти в Китае в 1930– 1940-е гг., которая была не в состоянии организовать должный статистический учет потерь. Важно помнить и то, что как минимум около 10 млн умерших – это жертвы голода и рукотворных «стихийных бедствий», вызванных действиями собственно китайских властей [26]. Однако цифра в 35 млн погибших закрепилась в китайской литературе и не является предметом публичной дискуссии – примечательно, что фиксация на этой цифре делает Китай страной с наибольшим числом жертв в мире (см., например: [25]).
Для китайского дискурса о войне с Японией характерно представление как о крайне жестокой (прежде всего для мирного населения) войне. Фокус делается не только на японских военных преступлениях, но и на неспособности тогдашнего руководства (партия Гоминьдан во главе с Чан Кайши) им противостоять. Неоднократно повторяется мысль о том, что война с Японией стала катастрофой, которая прервала процесс модернизации Китая, и тяжесть которой до сих пор невозможно компенсировать [8].
При этом в китайском обществе существует устойчивый консенсус по поводу того, что именно героическое сопротивление японской экспансии позволило Антигитлеровской коалиции в конечном итоге победить и Германию, и Японию 5. На уровне неформальных разговоров с китайцами, как обывателями, так и университетскими преподавателями, в период учебы и исследовательских поездок в КНР, автору статьи неоднократно доводилось слышать, что именно Китай (а не США или СССР) нанес наибольший урон японской военной машине, и этот факт крайне важен для национального самосознания.
Огромный вклад СССР в борьбу китайского народа против японских милитаристов не оспаривается и может являться явственной точкой соприкосновения позиций сторон (китайские оценки по этому поводу подробно изложены в: [28]). Признается, что СССР оказывал военно-техническую помощь все восемь лет войны с Японией (имеется в виду, прежде всего, создание автомобильного маршрута Сары-Озек – Урумчи – Ланьчжоу, льготные кредиты на покупку советского вооружения, участие советских летчиков в воздушных боях). Существует устойчивое представление о том, что советские войска в августе 1945 г. участвовали в освобождении Маньчжурии, где находилась самая боеспособная японская группировка – Квантунская армия – об этом же свидетельствует значительное число памятников и военных мемориалов, посвященных советским солдатам по всему Северо-Восточному Китаю, причем важно отметить, что все они находятся на государственном балансе, каталогизированы и содержатся в порядке (подробное исследование на этот счет см.: [31]).
При этом подчеркивается, что Китай уже к августу 1945 г. нанес решающий удар Японии, измотав ее, поэтому внешний фактор в поражении Японии имеет важное, но не определяющее значение [25; 28, с. 121–146] (также данный тезис доказывался в обзорных отечественных работах по китайской историографии [14; 15]).
В целом же Китай видит себя одним из полноправных победителей во Второй мировой войне и ждет, что мировое сообщество по достоинству оценит его вклад в победу. В этом плане показательно такое высказывание министра иностранных дел КНР Ван И: «Китай и Россия, ставшие главными театрами боевых действий в Азии и Европе, понесли колоссальные человеческие жертвы, плечом к плечу сражаясь с фашизмом во имя спасения человеческих судеб и защиты мира во всем мире, тем самым внеся свой немеркнущий вклад. Будучи главными странами-победительницами во Второй мировой войне, Китаю и России следует сплоченно отстаивать историческую правду, противостоять действиям, приукрашивающим милитаризм, пресекать заговоры, искажающие исторические реалии, ни в коем случае не допускать оправдания актов агрессии прошлых лет» [2].
Подобная позиция в целом комплиментарна по отношению к нашей стране, пусть и исходит из несколько деформированных представ- лений о вкладе советской и китайской сторон в разгром Квантунской армии в Маньчжурии. Ряд материалов, выходивших в последние годы (прежде всего см.: [28]), оперируют именно таким пониманием роли и вклада сторон и в целом его следовало бы считать хорошей компромиссной основой для поддержания общей исторической памяти о событиях Второй мировой войны. Однако рост националистических тенденций, наблюдаемых в современной КНР, заставляет опасаться дальнейшего усиления фокуса на заслугах Китая в ущерб исторической справедливости.
Актуальные тенденции. К началу 2010-х гг. КНР оказалась в состоянии, близком к системному общественно-политическому кризису. Период бурного экономического роста, обеспеченного рыночными реформами, подошел к концу, чему способствовал и мировой финансовый кризис 2008–2013 годов. Постоянное повышение благосостояния населения вкупе с появлением широкого доступа к информации способствовало повышению запроса на дальнейшие преобразования. При этом пассивность «четвертого поколения руководителей» (Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и др.), фактически саботировавшего давно назревшие задачи в области реструктуризации экономики, имущественного расслоения, коррупции, стала причиной снижения лояльности населения к Коммунистической партии.
В этих условиях избранный в октябре 2012 г. генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпин, чтобы не допустить коллапса страны по советскому образцу, решительно «затянул гайки» практически во всех сферах жизни общества: от усиления партии до ужесточения правил пребывания в стране иностранцев. Одним из направлений политики Центра в «новую эпоху», как позднее стали называть правление Си Цзиньпина, стало усиление идейно-воспитательной работы среди населения (безусловно, начавшееся еще раньше). Наиболее характерной чертой этого процесса стал уклон в сторону пропаганды патриотических и националистических ценностей.
Идеологическим ориентиром такой работы стала выдвинутая Си Цзиньпином еще в ноябре 2012 г. концепция «Китайской мечты» (она же «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» Ф^ШШ^ЖЖФ»).
При этом четкое определение того, что же такое «Китайская мечта», отсутствует, оставляя широкий простор для интерпретаций. Согласно наиболее популярным трактовкам, «Китайская мечта» означает возвращение Китая на позицию мирового лидера; в то же время существуют и трактовки, оценивающие концепцию прежде всего с позиций внутренней политики. Они делают фокус не на «мечте», а на понятии «Чжунхуа миньцзу» ФШ# (китайская нация), подразумевая, что Си Цзиньпин призывает к строительству «национального государства», в котором прежнему сосуществованию китайцев (хань) и пятидесяти пяти национальных меньшинств будет противопоставлена «выплавка» единой нации.
Оба подхода предполагают, что идеологи отталкиваются от тезиса о нынешнем кризисе Китая и китайской нации. Для иллюстрации этого используется представление о том, что только национальное усиление позволит избежать повторения «столетнего унижения» и национальных страданий, прежде всего, в годы Войны сопротивления Японии.
Неотъемлемой частью работы по претворению в жизнь «Китайской мечты» стало стремление руководства КНР выработать четкий стандарт понимания тех или иных исторических вопросов [17]. На данный момент усилия в основном сфокусированы на «выправлении» истории КНР.
Ярким свидетельством этого процесса стало принятие в ноябре 2021 г. на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва «Решения по основным достижениям и опыту столетней борьбы партии» (^^^мте^жкешм АОй##). Этот документ, подготовленный при личном участии Си Цзиньпина, который возглавил редакционную группу, представляет собой лишь третью версию комплексной истории Коммунистической партии Китая. Главной целью «Решения» является закрепление возвеличивания Си Цзиньпина, который в новой трактовке истории предстает руководителем, по своему значению равным только Мао Цзэдуну.
Несмотря на то что «Решение» в основном касается внутренних вопросов, сравнение текста резолюции 2021 г. с резолюциями 1945 и 1981 гг. позволяет сделать ряд выводов об изменениях в восприятии истории взаимоот- ношений с другими странами. Так, применительно к теме статьи, из новой резолюции убран присутствующий ранее в документе 1981 г. тезис о вкладе СССР в победу над Японией («борьба китайского народа против Японии, продолжавшаяся восемь лет, вместе с борьбой народов Советского Союза и других стран против фашизма, позволила одержать окончательную победу») (цит. по: [9, с. 743]) 6.
В недавно изданных китайских школьных учебниках по истории участие советских войск в освобождении Китая от японских оккупантов в 1945 г. не замалчивается, но и не выпячивается (подробнее см.: [24]). Так, в пособии для учителя истории помощь СССР в годы войны рекомендовано перечислять в одном ряду с денежными переводами хуацяо (зарубежных китайцев) и деятельностью «летающих тигров» – американских летчиков-добровольцев, воевавших на стороне Нанкина в 1941–1942 гг. [29, с. 331]. Разгром Советским Союзом Квантунской армии называется только вторым фактором итогового поражения Японии во Второй мировой войне после американской ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки [30, c. 147].
При этом в качестве одной из ситуативных моделей на уроке истории, посвященном войне с Японией, учителю предлагается рассказать, что до начала войны в Гоминьдане существовали настроения, что война будет непродолжительной, так как на стороне Китая в войну вступит СССР. Учителю рекомендуется спросить класс, о чем это говорит. Школьники подталкиваются к выводу, что победа в войне может быть добыта только силами самого народа [29, c. 328]. Этот вывод содержится и в самом учебнике, где однозначно говорится, что основная заслуга в победе над Японией принадлежит Китаю [30, c. 147], а сама победа, как говорится в другом издании, «открыла прекрасные перспективы для великого возрождения китайской нации» [29, c. 331].
Таким образом, не будет преувеличением вывод о том, что в современном Китае наблюдается тенденция к абсолютизации собственного опыта и достижений КПК, как в военном, так и в социально-экономическом плане. Память о позитивной роли нашей страны в истории КПК и КНР на этом фоне замалчи- вается, и при сохранении нынешних тенденций в перспективе может исчезнуть из общественного дискурса.
Кейс 88-й бригады Дальневосточного фронта. Данная тенденция прослеживается в разных плоскостях – так, автор уже рассматривал ее применительно к музейным и мемориальным объектам в российско-китайском приграничье [11]. Другой частный, но весьма показательный пример – отражение в китайской историографии деятельности 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта, которая, с одной стороны, представляет исторический прецедент сотрудничества двух стран в годы Второй мировой войны, а с другой – раскрывает точки расхождения трактовок одних и тех же событий двумя странами.
88-я бригада Дальневосточного фронта – интернациональное войсковое соединение, образованное в составе Красной армии 21 июля 1942 года. Формировалось из числа граждан Советского Союза, этнических китайцев, корейцев, эвенков, нанайцев, проживавших на советской территории в низовьях рек Амур и Уссури; также пополнялась участниками партизанского сопротивления в Маньчжурии, вынужденных уйти оттуда под натиском карательных отрядов японских милитаристов. Дислоцировалась в селе Вятское под Хабаровском. Командиром бригады был назначен Чжоу Баочжун, китайский коммунист, в 1928–1931 гг. находившийся на учебе в Москве, а в 1931–1940 гг. на подпольной работе в Маньчжурии. Командиром одного из батальонов являлся Ким Ир Сен, впоследствии национальный лидер КНДР. Фактически бригада являлась диверсионно-разведывательным отрядом специального назначения, предназначенным для выполнения боевых задач на оккупированной японцами территории Маньчжурии [19]. Бригада насчитывала всего 4 000 чел. (против порядка 7 000 чел. в обычной стрелковой бригаде) и находилась в подчинении разведотдела Дальневосточного фронта [13].
Позиция китайской стороны по поводу формирования и функционирования бригады весьма отличается от российской версии. Согласно официальным китайским трактовкам, данное подразделение имеет «двойное название» – также она считается «88-й учебной бригадой Объединенной армии Северо-
Восточного Китая». Бывший посол КНР в России Ли Хуэй в предисловии к изданию монографии об истории бригады, изданной в России при финансовой поддержке Генконсульства КНР в Хабаровске, пишет: «Под руководством компартии Китая командиры и бойцы героической Объединенной армии с 1931 по 1945 гг. вели сражения в обширном районе от хребта Чанбайшань до реки Амур, проявляя поразительную стойкость, упорную и несгибаемую волю китайской нации в борьбе с японскими агрессорами, оккупировавшими Северо-Восточный Китай. В самое трудное время смертельной схватки с врагом командиры и бойцы Объединенной армии получили поддержку от правительства и армии Советского Союза. <...> В решающий момент сражения с японской армией героические командиры и бойцы бригады во взаимодействии с советскими войсками пошли в наступление на противника в Северо-Восточном Китае, плечом к плечу с советскими воинами в кровавых сражениях разгромили японских агрессоров» [20, с. 6–7].
Хотя из советских документов хорошо известно, что бойцы бригады готовились к вспомогательным разведывательным, саперным и воздушно-десантным задачам, а также выполнению функций проводников, переводчиков и т. д. (см.: [12]), в китайской историографии данное подразделение позиционируется как способное осуществлять самостоятельные военные операции [3; 18]. Не подлежат сомнению факты личного героизма бойцов бригады как в годы, предшествующие ее формированию, так и в августе 1945 г., однако даже сам численный состав бойцов соединения, участвовавших в разгроме Квантунской армии (160 чел. в составе войск 1-го Дальневосточного фронта, 80 – 2-го Дальневосточного, 100 – Забайкальского, 290 – в составе групп парашютного десантирования [20, c. 163–164]) свидетельствует о его ограниченных, пусть и весьма важных возможностях влиять на исход военных действий.
Показателен текст поздравительной телеграммы, направленной главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевским командирам и бойцам 88-й бригады: «Благодарю вас за информацию, особенно разведданные о крепостях и укреп- районах японской Квантунской армии, которые вы добывали ценой собственной крови и жизни. Они сыграли важную роль при наступлении нашей Дальневосточной армии в Маньчжурии» (цит. по: [20, c. 182]).
Влияние бригады на развитие событий в регионе оказалось больше уже после разгрома японцев. В частности, именно тот факт, что бойцы 88-й бригады, направившись в Северо-Восточный Китай после окончания войны, являлись одновременно и советскими военнослужащими, позволил китайским коммунистам фактически установить свой контроль над важнейшими городами региона без нарушения положений «Договора о дружбе и союзе между СССР и Китаем», который был заключен с Чан Кайши в июле 1945 года. Например, командир бригады Чжоу Баочжун, прибыв в Чанчунь в начале сентября 1945 г., стал заместителем командующего советским гарнизоном, а по совместительству возглавил местное коммунистическое военное образование «Армия самообороны» [20, с. 193]. По приказу Чжоу Баочжуна, его бойцы, будучи одетыми в советскую военную форму и имея при себе документы советских военнослужащих, начали заниматься вывозом японского трофейного оружия, которое затем сыграло важнейшую роль в завершающей фазе Гражданской войны коммунистов и Гоминьдана 7.
На территорию Северо-Восточного Китая 20 тыс. кадровых работников КПК и 110-тысячная армия вступили только в третьей декаде сентября. Приказ № 046 о расформировании 88-й бригады и исключении ее из состава Красной армии был издан менее месяца спустя, 15 октября 1945 г., когда командиры и бойцы бригады уже сыграли свою важнейшую роль в деле установления контроля коммунистами над Северо-Восточным Китаем после разгрома Квантунской армии.
Несмотря на то что история 88-й бригады вполне допускает компромиссные формулировки, адекватно отражающие исторические реалии и не принижающие героизм советского или китайского народов (показательный пример см.: [5]), в последнее время фиксируются попытки китайских представителей продвигать свое специфическое видение деятельности бригады.
Так, в 2019 г. при организации выставки фотографий 88-й бригады во Владивостоке в обход договоренностей с российской стороной китайцы самостоятельно подготовили подписи к экспонатам как на китайском, так и на русском языках. Информация не только содержала массу грамматических и орфографических ошибок, но и отражала исключительно китайские подходы к истории. Лишь накануне выставки было достигнуто компромиссное решение, что подписи на китайском языке останутся те же, а на русском будут отредактированы в соответствии с российской позицией. В китайском тексте было указано, что 88-я бригада – это русское название Объединенной антияпонской армии Северо-Востока, которая была независима от советского руководства и контролировалась КПК. В отношении участия СССР в освобождении Китая говорилось, что «в завершающей фазе войны части советской Красной армии были передислоцированы на северо-восток Китая, чтобы вместе с китайской армией и народом сражаться с японцами, и это помогло китайскому народу одержать окончательную победу над врагом» (подробнее эта ситуация описана в: [11, с. 32–33]). Примечательно, что практически идентичная трактовка была использована послом КНР в России Чжан Хань-хуэем в его статье к 75-летию Победы во Второй мировой войне для «Российской газеты» [23].
Аналогичные формулировки китайская сторона планировала использовать и в информационном оформлении Мемориального комплекса бойцам 88-й бригады в селе Вятское. В 2016 г. китайские подрядчики подготовили подписи, которые различались в двух языках. Надпись на русском гласила: «Монумент героев 88-й Отдельной стрелковой бригады Краснознаменной Дальневосточной армии СССР». Надпись на китайском: «Монумент героям Учебной бригады антияпонской объединенной армии Северо-Восточного Китая». В результате открытие комплекса было заморожено и не осуществлено до сих пор 8.
Результат. Ситуация с мемориальным комплексом в селе Вятское – самый яркий пример того, как общая история дружбы и сотрудничества народов двух стран наталкивается на точки расхождения там, где, казалось бы, должны быть точки соприкосновения интересов. Рост националистических настроений в КНР, подпитываемый государственной пропагандой, нацеленной на дальнейшее сплочение общества вокруг Коммунистической партии, приводит к тому, что «неудобные» страницы истории, свидетельствующие об ограниченных возможностях китайского государства или партии в прошлом, затушевываются, подменяются скорректированной версией тех или иных событий.
Безусловно, речь не идет о масштабной фальсификации истории, с которой мы имеем дело в случае с Западом или рядом постсоветских стран. Необходимо признать, что историческая память о помощи Советского Союза, пусть и в редуцированной форме, но все же сохраняется и в мемориальных объектах, и в учебной литературе, и на страницах научных и публицистических изданий. Регулярно с речами, высоко оценивающими сотрудничество с нашей страной, выступают китайские руководители (хотя используемые ими формулировки свидетельствуют о сдвиге акцентов в оценках Второй мировой войны). Все это позволяет рассчитывать на совместную работу по выработке такого исторического нарратива (прежде всего в виде тех формулировок, которые будут использованы в учебных изданиях и мемориальных практиках), который, с одной стороны, будет исторически справедливым, с другой – не будет ущемлять интересы сторон.
Выработать такой нарратив и разрешить возможные противоречия можно только путем активизации дискуссии по поводу истории российско-китайских отношений с привлечением историков, преподавателей, публицистов, музейных работников и общественных активистов.