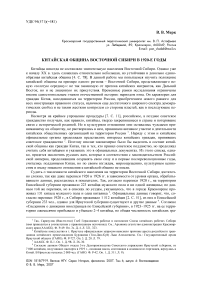Китайская община Восточной Сибири в 1920-е годы
Автор: Мерк В.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736907
IDR: 14736907 | УДК: 94(571)(=581)
Текст статьи Китайская община Восточной Сибири в 1920-е годы
Китайцы никогда не составляли значительную населения Восточной Сибири. Однако уже к началу ХХ в. здесь сложилась относительно небольшая, но устойчивая и довольно единообразная китайская община [4. C. 78]. В данной работе мы попытаемся изучить положение китайской общины на примере одного региона – Восточной Сибири, представляющего некую «золотую середину»: не так зависимую от притока китайских мигрантов, как Дальний Восток, но и не лишенную их присутствия. Временные рамки исследования ограничены вполне самостоятельным этапом отечественной истории: периодом нэпа. Он характерен для граждан Китая, находившихся на территории России, приобретением нового равного для всех иностранцев правового статуса, наличием еще достаточного широкого спектра демократических свобод и не таким жестким контролем со стороны властей, как в последующие периоды.
Несмотря на крайнее упрощение процедуры [7. C. 11], российское, а позднее советское гражданство получали, как правило, китайцы, твердо закрепившиеся в стране и потерявшие связи с исторической родиной. Но в культурном отношении они оставались чуждыми принимавшему их обществу, не растворялись в нем, принимали активное участие в деятельности китайских общественных организаций на территории России 1 . Наряду с этим и китайские официальные органы продолжали представлять интересы китайских граждан, принявших советское гражданство 2 . Поэтому вполне закономерно было бы выделить в составе китайской общины как граждан Китая, так и тех, кто принял советское подданство, но продолжал считать себя китайцами и указывать это в официальных документах. Из этого списка, однако, придется исключить русских жен, которые в соответствии с законодательством Российской империи, продолжавшим сохранять свою силу и в первые послереволюционные годы, считались подданными Китая, но по своим взглядам, мироощущению, культурным ценностям и языку никакого отношения к китайской общине не имели.
Судить о численности китайского населения на территории Восточной Сибири достаточно сложно, так как даже переписи 1920 и 1926 гг. в зависимости от уровня органа, обрабатывавшего данные, расходились в показателях. Так, согласно переписи 1920 г., на территории Енисейской губернии проживало 223 китайца мужского пола и ни одной женщины; по данным той же переписи, но в списках по уездам, указывалось, что в городе Красноярске проживал 131 китаец мужского пола и одна китаянка 3. Официальные данные говорят, что, согласно переписи 1920 г., в Сибири проживало 1 512 китайцев [2. C. 51], из них в Енисейской губернии 233 чел., однако для Иркутской губернии существуют и другие данные 4. Согласно «Сведениям о движении иностранцев по Енисейской губернии», в 1923–1925 гг. на ее территорию ежемесячно прибывало и убывало 2–4 китайца, но общая численность китайских гра- ждан не превышала 70 чел. 5. В Иркутск ежемесячно прибывало / убывало до 400 чел. 6, такой большой поток связан и с традиционным представительством китайской общины в городе, и с деятельностью китайского консульства.
Установление дипломатических отношений СССР и Китайской республики, развитие нэпа в нашей стране способствовало притоку китайских граждан на территорию России и Сибири. Согласно всесоюзной переписи 1926 г., в Сибири зафиксированы 2 151 гражданин Китайской республики [3. C. 12]. По данным этой переписи, в Иркутске проживала почти тысяча китайцев, однако, по сведениям окружной милиции, численность китайских граждан в городе Иркутске на 1 января 1927 г. составляла 624 чел.; на протяжении девяти месяцев того же года прибыло / убыло 2 498 человек, т. е. 10–15 чел. ежедневно, но общая численность не превышала 842 чел. 7 . Большой наплыв китайцев на территорию Сибири в 1928 г. отмечает начальник отдела адмнадзора НКВД Клокотин, но конкретными цифрами он не оперирует 8 .
Точных же данных об общей численности китайцев в Сибири и СССР никогда не было [5. C. 257]. В самом общем плане мы можем оценить численность китайских граждан, одновременно находящихся на территории Восточной Сибири на протяжении 1920-х гг., в среднем в 1 000–1 500 чел.
Практически все китайцы, на которых в изучаемый период сохранились анкетные сведения, приезжали в Россию «на заработки», «на работу», в основном через Харбин и Владивосток, в единичных случаях через Благовещенск на Амуре или порты Черного моря. Большая половина китайцев прибыла в Россию еще до Октябрьской революции, в основном в 1915–1916 гг., что было связано с дефицитом трудовых ресурсов, вызванным Первой мировой войной; после 1917 г. поток мигрантов сократился. В первой половине 1920-х гг. прилив китайцев на территорию Восточной Сибири практически прекращается. Но после установления взаимоотношений между Китайской республикой и СССР количество приезжающих растет, это продолжается вплоть до прекращения нэпа и разрыва дипломатических отношений в связи с конфликтом на КВЖД. В подавляющем большинстве мигрантами из Китая были холостые мужчины трудоспособного возраста. Средний возраст китайцев в Енисейской губернии, на которых есть анкетные данные, составлял 34,6 лет (причем самому младшему было 23, а самому старшему 64), в Иркутской губернии – 36 лет 9 . Половина из них указала местом рождения г. Чифу (современный Яньтай) провинции Шаньдун, еще со времен Российской империи являвшийся крупннейшим центром вербовки китайских рабочих [6. C. 17].
По профессиональным занятиям среди представителей китайской общины выделяются мелочные торговцы и чернорабочие. Первые занимались реализацией сигаретных гильз, папирос и табака, как правило, собственного изготовления, а также торговали «перекупными галантерейными и мелочными товарами». В Енисейской губернии количество китайских торговцев составляло 7–9 % от всей общины, в Иркутской губернии – также 7–8 %, хотя в абсолютных числах их было в три раза больше (17–20 и 61–69 соответственно). Причем именно эта категория представителей китайской общины являлась наиболее укоренившейся в Восточной Сибири. Торговцы проживали здесь на протяжении 2–5 лет, многие обзавелись семьями. Были представители таких профессий, как машинист и матрос, сапожник и овчинник, прачка и парикмахер, плотник и фотограф и пр., были даже два практикующих врача: Ван-Чао-Лин Николай Спиридонович в Красноярске и Бурлаков Лев Алексеевич в Иркутске. Однако подавляющую часть китайской общины составляли чернорабочие, занимавшиеся практически всеми видами труда – от валки леса до ассенизационных работ 10 .
Китайская община имела свои представительные организации, как оставшиеся с дореволюционных времен, так и созданные при поддержке советской власти. Среди первых было Китайское национальное общество в городе Иркутске, которое защищало интересы, прежде всего, торговцев и участвовало (наряду с Китайским консульством, а зачастую и вместо него) в урегулировании отношений с местными органами власти. Ко второму типу организаций относится созданный указом за № 411 от 25 февраля 1920 г. Сибирской миссии Народного Комиссариата по иностранным делам «Союз Китайских рабочих города Красноярска». Союз возглавлялся Исполнительным комитетом, состоявшим из 11 чел., под руководством президиума из председателя, заместителя председателя и секретаря. Своей целью данная организация ставила сплочение и защиту представителей Китая на территории губернии, а также оказание китайским рабочим поддержки их законных прав и интересов, содействие в нравственном и культурном развитии; отдельным пунктом выделялось развитие классового самосознания 11. Подобные организации выдавали документы, подтверждающие личность, удостоверения и есть даже сведения о выдаче национального паспорта. Однако с отказом советской власти от идеи «китайского самоуправления» и передачей функции надзора за китайскими гражданами советским государственным органам данные организации были ликвидированы [5. C. 262].
Обращает на себя внимание компактное расселение китайцев в региональных центрах, таких как Иркутск и Красноярск (в этих городах проживала основная часть китайской общины). В официальных документах встречаются немногим более сорока адресов в Красноярске и около ста в Иркутске, из которых формируются довольно компактные группы проживания на окраинах и в центре, в бывших доходных домах. Меняя по какой-либо причине место жительства, китаец обычно перебирался к своим соотечественникам. Редким исключением здесь являлись китайцы, женившиеся на русских девушках, которые жили, как правило, в усадьбах жен. Зачастую по одному адресу было зарегистрировано 2–5, а то и 10 чел., но практика показывала, что регистрировались далеко не все. С большой долей достоверности можно предположить, что большая часть китайцев, оставшихся незарегистрированными, проживала по тем же адресам.
Такая компактность и организованность общины казалось бы могла стать основой китайской организованной преступности, что имело место на российском Дальнем Востоке. Однако основная масса проступков китайских граждан в то время была скорее административной, нежели уголовной. Из свыше ста китайских заключенных в Первом Красноярском концентрационном лагере, функционировавшем в 1920–1922 гг., подавляющее большинство обвинялось в трудовом дезертирстве или в нарушении трудовой дисциплины, за что подвергалось заключению на срок от 10 дней до нескольких месяцев. Причем, как правило, они осуждались и прибывали на место исполнения наказания группами по 10–30 чел. В работе лагеря имелись случаи, когда китайские заключенные прибывали в концлагерь без постановления и приговора или без документов, удостоверяющих личность. Только трое китайских заключенных (Чан-фу, Фу-и и Цун-тин) были осуждены следкомом Пятой армии за службу у атамана Семенова. За скупку колчаковских денег и агитацию против советской власти летом 1921 г. Красноярской ЧК был арестован и заключен в концентрационный лагерь сроком на один год без права применения на работах вне лагеря китаец, назвавшийся Добровольским Иваном Алексеевичем. Он подавал прошения на имя коменданта лагеря, но, не добившись своего, в итоге бежал. Всего же в общей сложности из лагеря бежало трое китайцев 12 . Среди срочно-заключенных Александровского исправтруддома оказался некто Ти-Ян-Фу, осужденный нарсудом г. Иркутска на срок 1 год 3 месяца за кражу 13 .
Однако во второй половине 1920-х гг. появляются сведения об арестах китайских граждан иного характера. Их стали арестовывать в основном за нарушение правил регистрации и проживания 14 . По тяжким же уголовным преступлениям (убийства, разбой и т. п.) ни одного обвинения китайским гражданам на территории Восточной Сибири в 1920-х гг. выдвинуто не было.
Что касается религиозных воззрений, то большинство опрошенных называли себя последователями буддизма; были также единичные случаи приверженности православию и религиозному конфуцианству 15. Примечательно, что к последователем конфуцианства относил себя китаец, которого можно было считать достаточно обрусевшим – это Шоу-Шен-Лин Иван Иванович, проживавший в России с 1915 г. и имевший жену Анастасию и двоих детей 16.
На фоне процессов, вызванных Первой мировой и Гражданской войнами, таких как миграции населения, гибель огромного количества мужчин, а также явлений иного рода, связанных с нэпом (урбанизация, восстановление хозяйства) увеличивается количество межнациональных браков китайцев и русских. На территории Енисейской губернии в 1920-е гг. проживали 23 семейные пары, в которых жена была русской, а муж китаец. Была еще одна смешанная семейная пара, в которой муж был китайцем, а жена Мария Францовна – польской подданной 17 . И еще двадцать две смешанные пары жили в Иркутске 18 . Из сохранившихся документов следует, что для женщин это был, как правило, первый брак, в который они вступали в возрасте от 18 до 26 лет. Только в одном случае замуж за Ван-чао-лина Николая Спиридоновича вышла Маргарита Артуровна (до брака Каргаполова), которая была вдовой и имела двух детей (14 и 8 лет). Причем муж также имел двоих сыновей (24 и 22 лет), старший из которых проживал в Китае, а младший был безработным и проживал в Красноярске вместе с отцом 19 . Новые семьи обзаводились совместными детьми. Например, семья Ван (Ванхунтин) Владимира Николаевича и Анны Федоровны, проживавших в Иркутске, имела двух детей (Валерия 5 лет и Владимир 4 лет). Еще четыре семьи имели по одному совместному ребенку в возрасте до 5 лет. Абсолютное большинство этих семей проживало в Красноярске и Иркутске, что, в принципе, закономерно, потому что межнациональные браки были распространены именно в городской среде [1. C. 437]. Жили смешанные семьи либо в съемных квартирах, либо в собственных домах, расположенных на окраинах городов и, по всей видимости, до брака принадлежавших женам.
Большинство китайцев на территории Восточной Сибири не собиралось связывать свою судьбу с Россией. Даже обзаведясь здесь семьями, многие возвращались в Китай, либо бросая семью на произвол судьбы, либо забирая ее с собой 20 . У многих на родине оставались родственники, недвижимость и даже собственный бизнес 21 . Некоторые, как Пен-Ю, приезжали в Россию специально забрать домой родственника, не имеющего средств покинуть страну 22 . В выезде с территории России китайцам помогало и Советское правительство, формируя специальные эшелоны для отправки в Китай; сохранились сведения о формировании двух таких эшелонов 23 .
Большинство китайцев жило весьма скудно. Об этом свидетельствуют, например, удостоверения, выданные для предъявления в иностранный отдел ГАО для освобождения от уплаты гербового сбора при получении временных документов личности. Такое удостоверение было выдано гражданам Тян-шин, Фан-гуй-тян и Чи-ю-мин «…в том, что согласно актам обследования их имущественного положения и основываясь на ряде свидетельских показаний видно, что указанные выше граждане никакого имущественного положения не имеют, в данный момент находятся в критическом положении на почве продолжительной безработицы» (цит. по: [5. C. 258]). В архивах сохранились сведения о китайцах, продолжительный срок являющихся безработными (таких как Мо-цин-вы, живший на средства брата Ли-вын-до) 24 . Еще одно свидетельство подобного рода – акты о смерти от болезней и несчастных случаев на производстве китайских рабочих Ли-вэй (Ли-ве-у), Ван-юй-луй, Ли-чен-тин, Сунн-шу-туй и Ки-му-ши, у которых «после смерти имущества не осталось» 25 .
Таким образом, сложившаяся в начале ХХ в. китайская община Восточной Сибири вполне приспособилась к новым экономическим и политическим реалиям периода нэпа. В то же время, даже несмотря на браки с местными женщинами, они лишь в исключительных случа- ях полностью адаптировались к местным условиям и в большинстве своем стремились вернуться на родину.
Материал поступил в редколлегию 10.05.2007