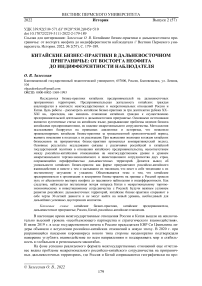Китайские бизнес-практики в дальневосточном приграничье: от восторга неофита до индифферентности наблюдателя
Автор: Залесская О.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Восточноазиатский регион
Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследуются бизнес-практики китайских предпринимателей на дальневосточных приграничных территориях. Предпринимательская деятельность китайских граждан анализируется в контексте межгосударственных и межрегиональных отношений России и Китая. Цель работы - рассмотреть китайские бизнес-практики за три десятилетия рубежа XX-XXI вв., проследив, как менялось отношение китайских граждан к осуществлению предпринимательской деятельности в дальневосточном приграничье. Основными источниками являются аутентичные статьи на китайском языке, раскрывающие проблемы ведения бизнеса китайскими предпринимателями, их видение межрегионального сотрудничества. Методология исследования базируется на принципах диалектики и историзма, что позволило проанализировать китайские бизнес-практики за тридцатилетний хронологический период, выявить изменения в подходах к их реализации. При выявлении эволюции взглядов китайских бизнесменов на приграничные бизнес-практики применялся компаративистский подход. Основные результаты исследования связаны с различиями российской и китайской государственной политики в отношении китайского предпринимательства, несоответствием между российско-китайскими отношениями на межгосударственном уровне и уровнем межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, сохраняющейся периферийностью дальневосточных территорий. Делается вывод об уникальности китайских бизнес-практик как форме приграничного российско-китайского взаимодействия и вместе с тем о застывании их эволюции, что несет в себе тенденцию к их постепенному затуханию и угасанию. Обосновывается тезис о том, что китайские предприниматели в организации и восприятии бизнес-практик на границе с Россией прошли путь от абсолютного восторга неофита до пассивного наблюдения и индифферентности. Как следствие, наблюдается постепенная потеря интереса Китая к межрегиональному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Россией. Будучи важным условием развития российских дальневосточных территорий, китайские бизнес-практики сохраняют в себе черты 30-летней давности и не могут выйти на новый уровень, необходимый для дальнейших успешных двусторонних контактов.
Китайские бизнес-практики, китайские предприниматели, дальневосточное приграничье, Россия, китай, российско-китайские отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147246420
IDR: 147246420 | УДК: 339.92(510+571.6)"19/20":930.2(045)=510 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-179-189
Текст научной статьи Китайские бизнес-практики в дальневосточном приграничье: от восторга неофита до индифферентности наблюдателя
В настоящее время межгосударственные отношения России и Китая вышли на исключительно высокий уровень «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». В июне 2019 г. в ходе государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина лидеры объявили о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху. В 2020 г. при разразившейся пандемии коронавируса нового типа стороны неоднократно подтверждали намерение углублять взаимодействие по всем направлениям и поддерживать мир и стабильность в глобальном и региональном масштабах.
На фоне успешно реализуемого формата межгосударственных отношений еще отчетливее видны проблемы межрегионального российско-китайского сотрудничества на приграничных дальневосточных территориях, где Россия и Китай соприкасаются географически на про-
тяжении более чем 4 тыс. км. В дальневосточном приграничье активно контактируют не только региональные властные органы, но и население двух стран. В процессе двусторонних контактов возникают и развиваются различные формы и направления взаимодействия, складываются определенные тренды и паттерны. Одним из таких паттернов исследуемого периода конца XX – начала XXI вв. является китайская миграция на российский Дальний Восток.
Вектор китайской миграции в современную Россию оформляется в конце XX в., с потеплением российско-китайских отношений во второй половине 1980-х гг. и открытием границ. Зарождается приграничный туризм. Вскоре после обмена первыми туристическими группами между СССР и КНР (а именно между городами Благовещенском и Хэйхэ) туристические поездки стали настолько популярны, что желающие были вынуждены бронировать место в туристической группе минимум за месяц.
Именно в процессе двустороннего туризма обнаружилась потребность приграничного населения в товарах соседнего государства. Китайцев привлекали фотоаппараты, бинокли, шинели, шапки-ушанки; россиян – халаты, полотенца, кроссовки, пуховики. В дальнейшем ассортимент товаров расширялся, а порубежные соседи все прочнее осваивали нишу приграничной торговли. Такая стихийно возникшая торговля дала толчок началу предпринимательской деятельности населения. Фактически китайские бизнес-практики берут свое начало от туристических поездок – выездной туризм дал возможность развернуться «народной» торговле1, а затем и другим формам китайского предпринимательства в приграничье. Под китайскими бизнес-практиками мы понимаем формы предпринимательской деятельности китайских мигрантов («народная» торговля, создание совместных предприятий, инвестиционная деятельность, подрядное строительство, аренда и обработка сельхозугодий, общепит и оказание услуг и др.), направленные на получение прибыли и характеризующиеся взаимодействием с принимающим (российским) населением. За исследуемый исторический период (конец 1980-х гг. – конец второго десятилетия XXI в.) отношение китайских мигрантов к бизнесу в дальневосточном приграничье претерпело изменения, исследование динамики которых стало целью данной статьи. В работе над статьей были использованы аутентичные статьи китайских исследователей, которые анализировали роль китайских предпринимателей в приграничном российско-китайском сотрудничестве как в переходный период 1990-х гг. (Гун Жунцзинь, Линь Дунхуэй, Сюй Цзинсюэ, Цзян Ли, Лю Шаоюй и др.), так и в 2010-е гг. (Хун Хуа, Тун Ифу, Сун Чэнхуа, Оуян Линъяо), когда в экономике обеих стран уже произошли определенные перемены; освещали вопросы российско-китайского взаимодействия, формирования и развития трансграничных механизмов российско-китайских связей, одним из звеньев которых являются китайские бизнесмены (Чжан Минъюань, Чжан Юйлун Фэн Аньцюань, Сун Аньли). В своих выводах и заключениях автор опирался также на солидные труды В. Л. Ларина, В. Я. Портякова, С. Г. Лузянина. Детальное описание механизмов бизнес-практик, личных стратегий китайских предпринимателей, их форм реализации бизнеса содержится в работах молодого китайского исследователя Чжоу Тяньхэ, написанных на русском языке.
Открытие границ и либерализация внешнеэкономической деятельности при остроте проблемы безработицы в Китае обусловили мгновенно возникшую устойчивую заинтересованность китайских граждан в бизнес-практиках в дальневосточном приграничье. Китайское население восприняло приграничные контакты как шанс улучшить свое финансовое положение. Пожелавшие вести дела с Россией китайские мигранты в большинстве своем принадлежали к небогатой части населения северо-восточного Китая, имели невысокий уровень доходов. Китайские исследователи отмечали, что и «уровень образования китайских бизнесменов в большинстве своем был невысок, число предпринимателей с высшим и средним специальным образованием не превышало 40 %. Часть из них имела опыт административной управленческой работы, но все они впервые столкнулись с необходимостью развертывания бизнеса в приграничье» [ Линь Дунхуэй , 1993, с. 31].
Тем не менее они были воодушевлены и ошеломлены открывшимися перед ними возможностями для бизнеса. Сложившиеся в короткий период бизнес-практики были достаточно разнообразны: оптовая и розничная продажа китайских товаров, бартерная торговля, организация туризма, открытие кафе китайской кухни, выращивание и переработка сельхозпродукции, строительные работы и т.д. Китайские предприниматели очень быстро поняли, что население отдаленного от центральных регионов страны российского Дальнего Востока, в 1990-е гг. оказавшееся в сложных социально-экономических условиях, нуждается в китайских товарах и услугах. Активно развивалось посредничество как вид предпринимательской деятельности.
Основное место в китайских бизнес-практиках на начальном этапе заняла приграничная «народная» торговля, «сросшаяся» с туризмом. Как отмечали китайские исследователи, «трехдневный тур в Россию фактически превратился в трехдневное челночничество» [ Цзян Ли , 1994, с. 29]. Китайские предприниматели трудились без праздников и выходных, полагая, что «десять тысяч юаней – это еще не бизнес, сто тысяч – это начало бизнеса, несколько сотен тысяч юаней – вот это уже бизнес». Они не желали, чтобы их называли «спекулянты» или «торгаши»; предпочитали называться «китайские Рокфеллеры» или « 大王 , даван» – «магнаты» и признавали, что «сейчас одна из самых модных тем – торговля с Россией» [ Шао Цзинъу , 1994, с. 52].
При ведении дел китайские мигранты, в одночасье становившиеся бизнесменами, широко опирались на поддержку со стороны своих земляков и родственников. Действовала система круговой поруки, позволявшая получать мгновенную помощь в открытии торговой точки, регистрации предприятия, поиске товара и каналов его сбыта, улаживании миграционных формальностей и т.д. Китайские предприниматели в России не действовали в одиночку – они имели самые тесные связи и поддержку (материальную и моральную) своих родственников, партнеров и друзей в Китае. Любой спрос от покупателей в России сразу же транслировался в Китай для скорейшего поиска необходимого завода-изготовителя либо услуги; широко была распространена финансовая поддержка, направлявшаяся непосредственно из Китая в форме кредитов, взятых китайскими партнерами в КНР. В основе всех механизмов бизнес-практик китайских предпринимателей лежала концепция неформальных отношений гуаньси (кит. 关系 – помощь, поддержка, связи), базировавшаяся на принципах землячества не только в семейных, но и в деловых контактах. При этом практики ведения бизнеса были как формальными, так и неформальными. Граница между законностью и незаконностью была довольно размыта: так, «народная» торговля могла объединять законное (например, импорт одежды) и незаконное (например, контрабанду алкоголя) поведение в одном транспортном канале. Китайские предприниматели использовали организованные неформальные группы подставных лиц – «кирпичей», «фонарей», которые провозили товары через границу под видом вещей для личного пользования. Сотрудники таможен имели возможность за определенное вознаграждение пропускать партии товаров без уплаты пошлин («серая растаможка»). Труднопреодолимые административные барьеры для получения официального разрешения на торгово-коммерческую заставляли китайских торговцев прибегать к помощи российских граждан для осуществления торговли: на российских граждан оформлялись частные предприятия, бронировались места на рынках и т.д. Неконвертируемость российского рубля и китайского юаня, а также отсутствие трансграничной банковской системы обусловили возникновение различного рода незаконных схем перевода денег через границу [ Чжоу Тяньхэ , Залесская , 2019, c. 10–11].
Бизнес-практики в приграничье стали для китайских предпринимателей основным способом накопления капитала, а для приграничных городов северо-восточного Китая – триггером развития. Так, приграничный Хэйхэ (от российского Благовещенска его отделяет всего 750 м реки Амур), бывший до начала 1990-х гг. деревней с несколькими рядами фанз, стал стремительно развиваться. Развернувшееся приграничное взаимодействие способствовало увеличению объемов приграничного товарооборота и туризма, развитию сельского и городского хозяйства. Сумма собранных местных налогов в 1992 г. впервые преодолела отметку в 100 млн юаней, достигнув 166,5 млн юаней. В том же 1992 г. среднедушевой уровень дохода в округе Хэйхэ достиг 2554 юаней, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,9 % и превысив среднедушевой уровень дохода по стране на 728 юаней. Был разработан детальный проект модернизации Хэйхэ, включавший реконструкцию водоснабжения, электроснабжения, дорог и других объектов. В 1993 г. инвестиции в городскую инфраструктуру Хэйхэ достигли почти 1,2 млрд юаней [ Лю Шаоюй и др., 1994, c. 22, 25–26].
В Китае приграничная торговля регламентировалась государственными программами, которые легли в основу региональной политики по ускорению экономического развития территорий приграничных регионов. Уже состоявшиеся успехи приморских провинций побудили китайское правительство обратиться к хорошо зарекомендовавшему себя механизму создания
«пояса открытости» и зон с особыми режимами управления. Реализация политики «идти вовне» позволяла ввести льготные налоговые и инвестиционные режимы для иностранных и внутренних инвесторов. Начиная с 1992 г., Государственный Совет КНР одобрил создание 14 зон пограничного и экономического сотрудничества, из них 4 – на границе с Россией: в городах Маньчжурия, Хэйхэ, Суйфэньхэ и Хунчунь. В этих зонах стали активно создаваться предприятия и компании, ориентированные на развитие сотрудничества с Россией. И, хотя каждое предприятие самостоятельно отвечало за все риски и заключало контракты, китайские предприниматели получили поддержку своей деятельности на региональном и государственном уровнях. Их приграничные бизнес-практики были частью государственной программы по развитию малого и среднего бизнеса и созданию «среднезажиточного общества». Так называемые «пять трудностей» (« 五 难 у нань») китайского предпринимателя – «найти надежного покупателя, транспортировать товар к месту назначения, выбрать товары на импорт, подстраиваться под постоянно меняющееся российское законодательство, заработать солидный капитал» [ Сюй Цзинсюэ , 1994, c. 20] – не включали в себя проблемы, связанные с китайским налогообложением либо юридическим оформлением предприятия в Китае.
Отметим, что и в Китае, и в России в течение десятилетий торговля полностью регулировалась «сверху», начиналась и прекращалась по указанию высшего руководства; на рынке торговали только несколько крупных фирм, список товаров также утверждался «сверху», и все риски несло государство. В 1980–1990-е гг. в обеих странах внешняя торговля перестала быть государственной монополией и была отдана в частные руки, однако подходы к ее регулированию оказались совершенно разными. В Китае «приграничные» вариации внешней торговли, «народная» торговля стали частью государственной и региональной политики и были последовательно вписаны в стратегию развития приграничных территорий. В России «челночная» торговля так и осталась в статусе стихийно возникшего явления, которое государством не регулировалось и воспринималось только как один из способов заработка приграничного населения.
Чувствуя поддержку государства, китайские предприниматели были ориентированы на использование всех возможностей приграничного взаимодействия, на выстраивание бизнес-практик по всем направлениям, на максимальный охват сфер в своей экономической деятельности. Руководствуясь примером приморских провинций, они стали активно создавать совместные российско-китайские предприятия (СП). Число всех СП, созданных на российском Дальнем Востоке, с 900 в 1992 г. возросло до 1500 к началу 1994 г., а количество российско-китайских СП составляло 40 % от общего числа. По объему инвестиций китайские СП были далеко не самым крупным сектором: так, японские капитальные вложения были в среднем в шесть раз больше [ Kerr , 1996, p. 944]. Китайские СП были в основном заняты в торговых операциях, требующих небольших инвестиций. «Большинство СП были небольшими компаниями, занимавшимися торговлей и посредничеством, а те СП, которые были заняты в сфере обработки, повсеместно использовали старое оборудование и осуществляли только первичную переработку сырья» [ Гун Жунцзинь , 1996, c. 30]. Незначительность китайских инвестиций и узость деятельности СП была обусловлена ограниченными инвестиционными возможностями китайских предпринимателей: большинство СП в дальневосточном приграничье были созданы совместно с предприятиями небогатых северо-восточных китайских провинций. Так, из 94 российско-китайских СП, зарегистрированных в Приморском крае в 1993 г., 88 были созданы совместно с инвесторами северо-востока Китая, только 4 СП – с инвесторами из Даляня, 1 СП – с инвесторами из Пекина и 1 СП – с инвесторами из Сучжоу (ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 109. Л. 65, 76–95). Китайские предприниматели из южных и юго-восточных провинций не были заинтересованы в ведении бизнеса в дальневосточном приграничье, с его отдаленностью от центральных регионов страны, низкой покупательной способностью немногочисленного населения, неразвитостью инфраструктуры и логистики.
Китайские инвесторы из северо-восточных провинций также довольно быстро осознали все риски создания предприятий на дальневосточной периферии, охваченной пореформенными процессами. В условиях отсутствия льготной налоговой поддержки и негибкости российского законодательства в отношении малого и среднего бизнеса китайские предприниматели выбрали путь скорейшего получения прибыли (перепродажу товаров, но не развитие собственного производства) и вместо уплаты налогов предпочитали ликвидировать вновь созданные СП. Боль- шинство предприятий создавались лишь для проведения крупных разовых сделок по вывозу сырья или совершения краткосрочных внешнеэкономических операций.
Абсолютное большинство китайских предпринимателей не было знакомо с российским законодательством и имело только поверхностные знания о России. По прибытии они в течение двух-трех недель знакомились с обстановкой, проводили переговоры, подписывали контракты и возвращались в Китай, после чего направляли своих партнеров либо подчиненных (зачастую не подготовленных к подобной деятельности) в Россию регистрировать созданную фирму. При таком подходе работа этих поспешно созданных фирм была направлена не на долгосрочный результат, а на быстрый доход. Но были и примеры успешного создания и развития крупного бизнеса китайскими предпринимателями на российском Дальнем Востоке. Так, в 1993 г. Ян Сяоли, школьная учительница из Харбина, основала в Уссурийске компанию «Вань Ян», которая впоследствии стала крупнейшей многопрофильной международной корпорацией. В Благовещенске широко известна коммерческо-строительная компания «Хуафу» (генеральный директор Хэ Вэньань), силами которой были построены ряд крупных объектов города и несколько жилых домов [ Чжоу , 2019, с. 118].
Совершенно не готовы к приграничным бизнес-практикам и взаимодействию с иностранным капиталом оказались российские власти. Региональным правительствам была предоставлена определенная инициатива в развитии внешнеэкономического сотрудничества, но ни стратегия, ни механизмы этого сотрудничества разработаны не были. Восхищение китайских предпринимателей открывшимися возможностями взаимовыгодных контактов постепенно сменялось недовольством повсеместным взяточничеством, процветавшим в России, отсутствием преференционного режима для приграничных территорий, жестким миграционным контролем, пришедшим на смену безвизовому режиму начала 1990-х. Привлекательность ведения бизнеса в России снижалась и из-за появившихся в СМИ публикаций о надвигающейся «желтой» опасности, о массовом «наплыве» китайцев на российский Дальний Восток. Китайские эксперты в ответ упрекали и российские власти, и российское население в зашоренности и закрытости. «Болезнь и ностальгия по колючей проволоке встречаются не только у простых жителей России – на облеченных властью людей этот синдром также оказывает сильное влияние: они все еще хотят оставаться за колючей проволокой, чтобы видеть мир оттуда» [ Цзян Ли , 1994, с. 32].
Таким образом, 1990-е гг. стали для китайских предпринимателей периодом открытия совершенно новых возможностей. Многие из китайских предпринимателей ранее ими не являлись, занявшись бизнесом в русле общего курса «идти вовне». Кто-то из них преуспел, кто-то потерпел неудачу, но все они активно взаимодействовали с русским населением приграничья, сотрудничали и узнавали друг друга. В ходе прагматичного сближения народов «восторги неофита» постепенно сходили на нет.
2000-е гг. (первое и начало второго десятилетия XXI в.) стали новым этапом в развитии китайских бизнес-практик в дальневосточном приграничье. Подписание в 2001 г. Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР вывело межгосударственные российско-китайские отношения на новый уровень, а смена политического лидера дала толчок к обсуждению новых проектов и перспектив.
Двигателем новых инициатив теперь нередко стал выступать Китай, беспрецедентно нарастивший свои экономические показатели и стремительно превращавшийся в «мировую фабрику». При этом стратегию экономического развития России в 1990-е гг. едва ли можно признать результативной: спад производства ВВП, начавшийся в 1991 г., продолжился, и в дефолтном 1998 г. достиг своего минимума – 57,5 % от уровня 1990 г. ВВП Китая, напротив, за 1991–2010 гг. вырос в 7,3 раза при среднегодовом приросте в 10,4 %; в 2010 г. по объему ВВП Китай вышел на 2-е место в мире после США [ Портяков , 2011, с. 156–161].
В 2010 г. доля дальневосточных российских регионов во внешней торговле между КНР и РФ равнялась 17 % [ Покровская , 2013, с. 40]. В приграничных российских городах росли китайские торговые центры, шла оживленная торговля самыми разнообразными товарами. Сформировались устойчивые схемы приграничного сотрудничества, в межрегиональном взаимодействии развилась целая сеть посредников, население обеих стран успешно находило свои выгоды в приграничных контактах.
Китайские предприниматели по-прежнему воспринимали приграничное сотрудничество с Россией как уникальный шанс для развития бизнеса. Спустя два десятилетия после начала взаимодействия тем не менее они уже отчетливо осознавали сложности воплощения каких-либо бизнес-практик в дальневосточном приграничье; среди основных причин этого назывались слабость и узость приграничного рынка, неразвитость логистических маршрутов (в т.ч. и их сезонный характер), практически полное отсутствие предприятий высокотехнологичной переработки товаров и т.д. Китайские эксперты с сожалением констатировали и невысокий уровень образования самих китайских предпринимателей, за два прошедших десятилетия не изменившийся к лучшему: «Среди них было очень мало тех, кто разбирался в ведении бизнеса и почти никто не разбирался в постоянно менявшихся российских законах» [ Чжан Минъюань, Чжан Юйлун , 2011, с. 12]. Но немало упреков при этом было адресовано и российской стороне: исследователи отмечали отсутствие у России стратегии приграничного сотрудничества и взаимодействия, ограниченность полномочий и консервативность региональных властных органов, частую смену кадров на всех уровнях, поиск чиновниками частной выгоды, сохранявшееся восприятие китайцев как «желтой» угрозы [ Чжан Минъюань, Чжан Юйлун , 2011; Хун Хуа , 2011].
Углублявшийся разрыв в развитии экономик России и Китая осложнял развитие приграничного партнерства. Имевшие начальный капитал китайские предприниматели все чаще выбирали для ведения бизнеса внутренние провинции либо внешние рынки других стран АТР. Россия постепенно оказывалась на периферии китайских бизнес-практик. Несмотря на провозглашенное российско-китайское стратегическое партнерство, торгово-экономическое сотрудничество по-прежнему испытывало негативное влияние законодательного несовершенства, недостаточной разработанности механизмов двусторонних связей. Тем не менее Россия оставалась в шорт-листе иностранных инвесторов: они еще закрывали глаза на многие внутренние проблемы и, учитывая обладание Россией одной из крупнейших в мире ресурсных баз, надеялись на успешное и стабильное сотрудничество.
Однако экономического роста в России не произошло, как не произошло и прорыва в развитии российского Дальнего Востока и Сибири. Несмотря на ряд программ и планов, они не были реализованы в полной мере. Осенью 2013 г. глава правительства РФ Д. Медведев был вынужден признать, что «все подходы, все модели, которые мы использовали в последние годы, для того чтобы кардинальным образом изменить развитие Дальнего Востока, ... не дали экономического эффекта» [Медведев признал…]. Приграничные дальневосточные территории не получили никаких преимуществ от близости к бурно развивающейся китайской экономике: никакого особого приграничного статуса и привилегированных условий торгово-экономического сотрудничества с сопредельными регионами Китая (даже в точках их максимального географического сближения, как, например, городов Благовещенска и Хэйхэ). Не нашли поддержки на федеральном уровне и региональные инициативы по формированию здесь особой экономической зоны с соответствующими элементами управления и необходимой инфраструктурой [ Покровская , 2013, с. 46]. Сложившийся статус-кво дальневосточного приграничья выглядел еще более удручающе на фоне набиравшей обороты риторики российского «поворота на Восток». При этом хотя статьи, муссирующие тему «желтой опасности», практически исчезли из СМИ, на неофициальном уровне сохранялась подозрительность по отношению к Китаю и китайскому присутствию, что «не могло не порождать настороженности, нерешительности, непоследовательности и даже двойственности в решениях и действиях политических и властных структур России в отношении КНР» [ Ларин , 2020, с. 10].
Китай к началу второго десятилетия XXI в. уже утратил иллюзии относительно выстраивания Россией в ближайшее время последовательной стратегии по развитию российско-китайского межрегионального торгово-экономического сотрудничества. В выдвинутой Китаем инициативе «Один пояс - один путь» России отводилась лишь роль одной из стран вдоль маршрутов проекта, причем стран, не обладающих особой инвестиционной привлекательностью. Так, китайские эксперты говорили, что «хотя с начала 2000-х гг. в России стабилизировалась социально-экономическая ситуация, однако китайские бизнесмены продолжают испытывать давление со стороны российских властных органов различных уровней» [Хун Хуа, 2011, с. 50]. Что касается, например, перспектив инвестирования в аграрный сектор, китайские специалисты отмечали, что на российском Дальнем Востоке «устарели технологии и сельскохозяй- ственное оборудование, сохраняется низкая производительность труда, что делает затраты на развитие сельского хозяйства слишком высокими» [Фэн Аньцюань, Сун Аньли, 2013, c. 32]. Труд же в России в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве с ростом благосостояния китайского населения постепенно утрачивал для китайцев свою привлекательность.
Вторая половина второго десятилетия XXI в. для приграничных бизнес-практик ознаменовалась масштабной девальвацией рубля. Это отразилось на предпринимательской деятельности китайцев: им невыгодно стало торговать с Россией, так как цены на их товары, закупаемые в Китае, для россиян поднялись практически в два раза. Определенную заинтересованность китайских инвесторов в развертывании бизнес-практик в дальневосточном приграничье вызвала российская инициатива по созданию территорий опережающего развития (ТОР) и введение в 2015 г. режима «Свободный порт Владивосток» (СПВ). Эти проекты были призваны стать векторами региональной дальневосточной социально-экономической стратегии РФ, триггерами возрастания внешнеторгового и инвестиционного потенциалов российского Дальнего Востока. Как было анонсировано на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, «ТОР – это инструмент развития ДФО, ориентированный на глобальную конкурентоспособность и движение в страны АТР» [Территории опережающего развития…]. Создание ТОР и модернизация транспортной инфраструктуры региона стали пунктами Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г., среди основных целей которой – ускорение роста экономики Дальнего Востока до 6 % в год. Как подчеркивают в Минвостокразвития России, «достижение и поддержание такого темпа роста экономики потребует значительного наращивания частных инвестиций в новые производства» [Национальная программа…].
Однако, если говорить о столь необходимых Дальнему Востоку китайских инвестициях, с сожалением приходится констатировать, что на протяжении нескольких лет прослеживается негативная тенденция сокращения их объемов в российскую экономику. В 2014 г. объем накопленных китайских инвестиций составлял 4,5 млрд долл., а на начало 2019 г. он уменьшился до 2,7 млрд долл. Таким образом, сокращение объема китайских прямых инвестиций за шесть лет составило 1,8 млрд долл. Китайские инвесторы указывают на неопределенность российского законодательства и перманентную вероятность запрета бизнес-проекта на любом этапе. По оценкам китайских экспертов, к настоящему времени степень инвестиционного риска в России повысилась и достигла среднего уровня (до 2015 г. оценивалась как низкая), что значительно уменьшило энтузиазм и китайских инвесторов, и китайского правительства в части инвестиционного сотрудничества с Россией. Китайские эксперты констатируют сохраняющуюся «политику настороженности» со стороны российских властей в отношении китайских бизнес-проектов, непрозрачность процедуры выбора инвестора и высокую коррумпированность российского чиновничества [ Тун Ифу , 2020, с. 13].
В свою очередь, российские партнеры отмечают непривлекательность условий китайской стороны для реализации инфраструктурных проектов на территории России: кредиты выдаются только под государственные гарантии, используется исключительно китайское оборудование, технологии и рабочая сила и т.д. [Российско-китайский диалог, 2020, c. 55, 63]. Доля Китая в общем объеме прямых иностранных инвестиций в ДФО по-прежнему составляет менее 1 %, из них 2/3 направлены в Забайкальский край на строительство единственного крупного китайского завода во всем ДФО – Амазарского целлюлозно-бумажного комбината. Доля китайских инвестиций в ТОРах и СПВ составляет всего 16,3 млрд руб. (259 млн долл.) и 1,67 млрд руб. (25,7 млн долл.) соответственно. В общей сложности в 45 проектах, реализуемых с участием инвесторов из Китая, китайский бизнес вложил менее 300 млн долл. Его не привлекает строительство промышленных предприятий на российском Дальнем Востоке, а только добыча и в лучшем случае первичная переработка сырья. Притоку же инвестиций в аграрный сектор препятствует российская сторона, выступающая против аренды земель дальневосточного приграничья китайцами [ Ларин , 2020, с. 21].
В приграничной российско-китайской торговле сохраняются тенденции 30-летней давности. Во-первых, по-прежнему из приграничных китайских провинций на российский Дальний Восток поступают преимущественно товары легкой промышленности, причем произведенные не на северо-востоке Китая, а в юго-восточных провинциях (Цзянсу, Чжэцзян и т.д.); на границе с Россией их только упаковывают либо осуществляют самые простейшие операции по дора- ботке. Это, безусловно, не способствует развитию производства и появлению новых предприятий и брендов в китайском приграничье. Во-вторых, торговля между порубежными территориями России и Китая, как и в 1990-е гг., представляет собой примитивную форму торговли - сохраняется «челночничество», лидирует торговля малых объемов. Так, экспортно-импортные операции провинции Хэйлунцзян в 2018 г. составили 174,77 млрд юаней, из них на «народную» торговлю пришлось 138,91 млрд юаней (79,5 %), а на торговлю переработанной продукцией с высокой добавленной стоимостью только 9,42 млрд юаней (6,8 %). В-третьих, в провинции Хэйлунцзян число крупных госпредприятий по-прежнему очень мало, преобладают средние и мелкие предприятия с ограниченными средствами и небольшими оборотами капитала. Так, в 2018 г. в Хэйлунцзяне насчитывалось 81 крупное предприятие, принадлежащее государству, а мелких, средних и микропредприятий - 339, 2194, 637 соответственно [Сун Чэнхуа, Оуян Линъяо, 2020, с. 11-13]. Северо-восточные провинции Китая, как и российские дальневосточные территории, пока не могут преодолеть свою периферийность, что серьезно ограничивает возможности выхода торговли с Россией на новый уровень.
Определенные надежды по развитию российско-китайского взаимодействия эксперты связывали с претворением в жизнь в 2019 г. ряда крупных логистических достижений. В конце мая 2019 г. была завершена стыковка китайской и российской частей автодорожного моста через Амур между Хэйхэ и Благовещенском. 18 июля того же года был начат проект по строительству канатной дороги между китайским Хэйхэ и российским Благовещенском через реку Хэйлунцзян (Амур). 2 декабря 2019 г. был официально запущен газопровод «Сила Сибири».
Тем не менее сохраняющаяся периферийность дальневосточных территорий и, соответственно, слабые надежды на окупаемость запущенных инициатив негативно влияют на активность китайских инвесторов. Так, Китай заметно сократил объем закупок российского газа в первом полугодии 2020 г., газопровод «Сила Сибири» загружен всего на 60 % от своей мощности. Призывы Минвостокразвития к китайским инвесторам вкладывать в Дальний Восток встречают довольно вялую ответную реакцию от китайского бизнеса. Российский Дальний Восток не является для Китая сколько-нибудь значимым рынком сбыта, и Китай не слишком нуждается в его природно-сырьевых ресурсах: так, доля дальневосточной нефти и нефтепродуктов в китайском импорте составляет менее 1 %, угля - менее 2 %, древесины и изделий из древесины - менее 4 % [ Ларин , 2020, с. 15].
Серьезным вызовом для российско-китайских отношений стала пандемия COVID-19. Граница между Россией и Китаем на Дальнем Востоке была закрыта 1 февраля 2020 г. Были полностью прекращены пассажирские перевозки, а грузовые - существенно сокращены. Из-за прекращения пассажирского сообщения остановился бизнес «челноков»: этот канал доставки китайских товаров широкого потребления российскому населению был закрыт. Был полностью остановлен приграничный туризм. Фактически речь идет о прекращении значительной части приграничных бизнес-практик, что, безусловно, будет иметь в будущем самые негативные последствия для развития отношений между двумя странами. Убытки будут подсчитаны после завершения этой негативной ситуации, но уже очевидно, что такие чрезвычайные обстоятельства, влекущие за собой максимальное снижение числа китайских мигрантов на российской территории, серьезно затормозят развитие бизнес-практик в будущем.
В целом, проведенный обзор китайских бизнес-практик в дальневосточном приграничье позволяет констатировать их немалый потенциал в развитии российско-китайского взаимодействия. Однако в их современном состоянии они не являются значимым фактором в российско-китайских отношениях. При достигнутом высоком уровне российско-китайских межгосударственных связей механизмы межрегиональных торгово-экономических контактов остаются неурегулированными. Китайские бизнес-практики как уникальная форма приграничного взаимодействия могли бы стать трендом взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества, но в течение десятилетий их векторы и направления не меняются и практически не развиваются, что все больше снижает заинтересованность китайских граждан в бизнесе с Россией. Сегодня представляется неясным выход этих практик на новый уровень, и, следовательно, не приходится ждать каких-либо значимых прорывов в траектории развития приграничного российско-китайского взаимодействия на Дальнем Востоке.
Список литературы Китайские бизнес-практики в дальневосточном приграничье: от восторга неофита до индифферентности наблюдателя
- Ларин В.Л. "Китайская экспансия" в восточных районах России в начале XXI в. через призму компаративистского анализа // Сравнительная политика. 2020. Т. 11, № 2. С. 9-27. EDN: FBPLHR
- Медведев признал неэффективность старых программ по развитию Дальнего Востока [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosbalt.ru/russia/2013/10/24/1191826.html (дата обращения: 20.07.2020).
- Национальная программа развития Дальнего Востока внесена в Правительство России [Электронный ресурс]. URL: https://minvr.gov.ru/press-center/news/22530/(дата обращения: 18.07.2020).
- Территории опережающего развития. Общая информация [Электронный ресурс]. URL: https://minvr.gov.ru/activity/territorii-operezhayushchego-razvitiya/ (дата обращения: 16.07.2020).
- Покровская В.В. Приграничная торговля как составляющая внешнеэкономической политики государства // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 3. С. 28-46. EDN: QCVSAR