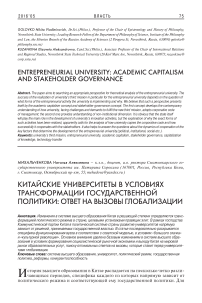Китайские университеты в условиях трансформации государственной политики: ответ на вызовы глобализации
Автор: Михальченкова Наталья Алексеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Образование и общество
Статья в выпуске: 5, 2016 года.
Бесплатный доступ
Изменения в системе высшего образования Китая в решающей степени определяются трансформацией политического режима в стране, целевыми установками правящих элит. В рамках господства Коммунистической партии Китая в политической системе страны развитие университетов напрямую зависит от решений, принимаемых государственной властью. В статье последовательно раскрывается специфика функционирования вузов в соответствии с советской моделью, в условиях «большого скачка» и «культурной революции». Основное внимание уделено базовым изменениям в системе высшего образования в условиях формирования социалистической рыночной экономики и выходу Китая на мировой рынок образовательных услуг, поиску оптимальных ответов на вызовы, которые ставит перед университетами глобализация.
Система высшего образования, университет, политический режим, государственная политика, реформы, конкурентоспособность
Короткий адрес: https://sciup.org/170168419
IDR: 170168419
Текст научной статьи Китайские университеты в условиях трансформации государственной политики: ответ на вызовы глобализации
История высшего образования в Китае распадается на несколько четко различающихся периодов, специфика каждого из которых напрямую зависит от политического режима и соответствующей ему государственной политики. Для каждого из этих этапов характерны определенные институциональные изменения в высшем образовании и/или изменения базовых идей и принципов, лежащих в его основе.
Собственные формы того, что можно отнести к сфере высшего образования, возникли в Китае, по крайней мере, 3 тысячи лет назад. По мнению китайского исследователя Мин Вейфанга [Min Weifang 2004], официальные формы китайского высшего образования впервые возникли около 1100 до н.э. и во время правления династии Шан назывались pi-youg . В период правления династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.) институты высшего образования назывались tai-xue . При династии Тан (618–907) китайские университеты, называемые guo-zi-jian , давали образование детям из семей императора и высших сановников. Одновременно развивались и неформальные институты высшего образования. Благодаря Конфуцию (551–497 до н.э.) получило развитие частное образование. В период правления династии Тан впервые появились и институты, получившие название shu-yuan , первоначально служившие хранилищем для книг, а со временем ставшие местом обучения.
Определенное влияние на развитие системы высшего образования в Китае оказали и западные модели, распространявшиеся американскими и европейскими властями, проводившими политику колониализма и империализма [Hayhoe 1999]. Существовали три основных канала проникновения западных моделей в страну. Во-первых, это были миссионерские колледжи, которые стали возникать в 1850-х гг. после того, как иностранцы получили право доступа в страну, завоеванное по большей части военной силой. Так, по мере того, как западные державы расширяли свое влияние в Китае, французские иезуиты, американские протестанты-миссионеры, а также немецкие промышленники начали создавать в стране высшие учебные заведения. Кроме того, китайские студенты с конца XIX в. стали получать стипендии для обучения за рубежом, в первую очередь в США. В 1908 г. американское правительство приняло решение перевести большую часть денег, полученных в качестве компенсации за ущерб, нанесенный восстанием боксеров, в специальный стипендиальный фонд для обучения молодых китайцев в американских университетах [Spence 1990]. Университет Цинхуа в Пекине изначально был создан в соответствии с американской моделью на деньги этого фонда для обучения китайских студентов, собирающихся ехать на учебу в США, английскому языку [Hayhoe 1999]. Примером третьего канала проникновения западных моделей высшего образования, связанного с модернизационными усилиями самих китайских реформаторов, может служить влияние на Пекинский университет известного ученого Цай Юаньпэя, который был назначен на должность его главы в 1917 г. Еще в 1898 г. был создан Пекинский столичный метрополитенский университет, который стал предшественником Пекинского университета и Пекинского педагогического университета и представлял собой первый современный национальный многопрофильный университет в Китае. Переименованный в 1902 г. в Пекинский университет, он подвергся кардинальным изменениям при Цай Юаньпэе, который ввел в нем германскую гумбольдтскую модель университета, сконцентрировав внимание на обеспечении университетской автономии и академических свобод [Hayhoe 1999].
Новый этап в развитии высшего образования в стране наступил с приходом к власти (в 1949 г., после революции и гражданской войны) Коммунистической партии Китая (КПК) во главе с Мао Цзэдуном. Главная задача, которая стояла перед КПК, заключалась в том, чтобы утвердить свою политическую власть и стабилизировать экономику. Поскольку в этот период времени китайские коммунисты копировали советскую политическую модель, не было ничего удиви- тельного в том, что и система высшего образования стала перестраиваться по образу и подобию СССР.
В 1952 г. китайским руководством официально было заявлено о том, что реорганизация существующей системы высшего образования в соответствии с советской моделью будет в наибольшей степени соответствовать потребностям социалистического развития общества и экономики. Были национализированы все вузы, включая частные и миссионерские университеты и колледжи. Они стали государственной собственностью, что позволяло предотвратить иностранное влияние на китайское образование.
Как и в Советском Союзе, все вузы были разделены на три группы: классические университеты, отраслевые и специальные институты. Научная деятельность была передана в ведение Китайской академии наук, а сотни исследовательских институтов – соответствующим министерствам и ведомствам. Следует отметить, что по своей структуре система оставалась в подобном виде вплоть до 1980-х г., включая в себя 32 классических университета, 378 отраслевых институтов (технических, сельскохозяйственных, медицинских и лесотехнических), 172 педагогических института и 93 колледжа по другим направлениям [Law 1996].
Реорганизация высшего образования по советской модели была составной частью первого пятилетнего плана (1953–1957). Расположение вузов было рационализировано с точки зрения географического размещения. Учебные планы и степени были унифицированы, и их утверждение стало централизованным. В вузах стали обучать по единым учебникам. Иерархическая централизация и жесткая организация вузовской системы были призваны обеспечить ее соответствие нуждам экономики.
Когда КПК и ее лидером Мао Цзэдуном в 1956 г. был взят курс на «большой скачок», означавший разрыв с советской моделью государственного и социальноэкономического устройства, начались и серьезные изменения в системе высшего образования. Надежды на то, что вузы будут способствовать социальному выравниванию в обществе, к тому времени уже не оправдались. Более того, Мао считал, что университеты постоянно воспроизводят неравенство и обеспечивают привилегированное положение отдельных групп населения по принципу классового происхождения [Henze 1992]. Политика «большого скачка» была, прежде всего, нацелена на экономическое развитие. Как отмечает Л. Орлеанс, «большой скачок» «был попыткой заменить мускулами и энтузиазмом огромных трудовых ресурсов Китая недостаток капитала; в образовании планировалось быстро нарастить число студентов рабочего и крестьянского происхождения, активизировать местную инициативу и интегрировать образование с производством» [Orleans 1987]. Условия для поступления в колледжи были снижены для того, чтобы дать возможность студентам с более слабыми знаниями (часто из семей рабочих и крестьян) получить высшее образование, а основной акцент при зачислении делался не столько на успехи в учебе, сколько на правильную политическую идеологию. В дополнение к этому были снижены и требования к созданию новых вузов. В результате заводы, фабрики, шахты и местные коммуны начали открывать собственные «университеты». Число университетов и обучающихся в них студентов стремительно росло, однако в большинстве случаев – в ущерб качеству получаемого образования.
Следует отметить, что влияние политики «большого скачка» на китайскую систему высшего образования оказалось кратковременным, и уже в 1961 г. победу в вопросах организации обучения и научных исследований и, что еще важнее, в вопросах о требованиях к студентам одержали политические группы в правящей коммунистической элите, выступавшие за традиционные академические стандарты, пусть и в ущерб «политической целесообразности» [Henze 1992: 96-97].
Восстановление более высоких стандартов высшего образования продлилось до начала «культурной революции» в 1966 г.
В основе «культурной революции» лежало стремление маоистов быстрыми темпами построить государственный социализм путем полного реформирования КПК, ликвидировать любые реальные и потенциальные угрозы личной диктатуре Мао в партии и в жизни государства. При этом особо следует отметить стремление маоистов провести не только «культурную революцию», но и сформировать новый тип личности китайца. И не случайно именно «культурная революция» нанесла наибольший ущерб системе высшего образования в КНР, почти разрушив все существовавшие вузы и другие организационные структуры образования и науки. Как отмечал Мин Вейфанг, «культурная революция означала отрицание почти всего, что было присуще существующей системе высшего образования, включая китайскую академическую традицию, западное влияние и советскую модель высшего образования и науки» [Min Weifang 2004: 62].
-
1 июня 1966 г. по радио было почитано дацзыбао, автором которого был преподаватель философии Пекинского университета Не Юаньцзы. Основная его мысль: «Решительно, радикально, целиком и полностью искореним засилье и зловредные замыслы ревизионистов! Уничтожим монстров – ревизионистов хрущевского толка!» [Xing Lu 2004: 61]. В результате миллионы школьников и студентов организовались в отряды и без труда начали выискивать подлежащих искоренению «монстров и демонов» среди своих преподавателей, университетского руководства, а затем среди местных и городских властей, которые пытались защищать преподавателей. 26 июля 1966 г. все учащиеся школ и университетов были распущены на 6-месячные каникулы. Практически система высшего образования в период с 1966 по 1970 г. не функционировала. Когда же университеты вновь были открыты, главным стало применение на практике маоистской политики «образования, служащего делу пролетариата и сочетающего в себе обучение с производительным трудом» [Hu Shi Ming, Seifman 1987: 30]. Вузы были превращены в солдатские, рабочие и крестьянские университеты, а студентов, как и в период «большого скачка», стали отбирать не по принципу успехов в учебе, а по принципу приверженности коммунистической идеологии. Интеллектуалы подвергались гонениям, ссылались на «перевоспитание» в деревню или были просто убиты. И только после того, как в 1976 г. Мао Цзэдун умер, а в 1978 г., после разгрома «банды четырех», к власти пришел Дэн Сяопин, многие решения, принятые в период «культурной революции», были отменены.
Не будет преувеличением сказать, что «культурная революция» оставила китайскую систему высшего образования в руинах, научные исследования были прерваны более чем на десятилетие. Разрыв между образованием и наукой в Китае и на Западе стремительно увеличивался, а поскольку университеты не работали, то образовалась катастрофическая нехватка преподавателей высшей школы, научных работников и администраторов в сфере науки и образования, необходимых для восстановления системы высшего образования. Соответственно, перед новой государственной властью встали сложнейшие задачи ее реконструкции. При этом необходимо учитывать, что при всем масштабном разрушении высшее образование в Китае по-прежнему по своим организационным рамкам и доминирующей государственной идеологии в отношении высшей школы соответствовало советской модели, к которой, собственно говоря, и вернулось сразу же после окончания «культурной революции» [Xiufang Wang 2003]. Таким образом, государственная политика Китая в период с 1949 по конец 1970-х гг. характеризовалась:
-
– узкой специализацией высшего образования, которая, как считалось, в большей степени соответствует потребностям социалистической экономики;
-
– организационным разрывом между высшим образованием и наукой;
-
– централизацией планирования и управления вузами;
-
– жестким государственным контролем над учебными планами, программами, учебниками;
-
– государственным финансированием вузов.
Отход от советской модели высшего образования начинается в конце 1970-х гг. и связан в первую очередь с началом рыночных преобразований в стране, курсом на создание социалистической рыночной экономики и открытость миру.
Остановимся несколько подробнее на тех базовых изменениях, которые произошли в этот период времени.
Во-первых, в 1977 г. была восстановлена общенациональная система экзаменов, существующая и по сей день. Обязательными экзаменами являются политика, математика и китайский язык. В зависимости от дальнейших планов по продолжению образования выбираются еще два или три предмета, например физика, химия, география, иностранный язык и др. Выпускник может претендовать на место в 5 университетах одновременно, и поступление, как и в России, зависит от набранных на экзаменах баллов. Конкуренция в этой сфере очень высока: в 1978 г. только 1 из 20 абитуриентов был принят в государственный вуз [Epstein 1982], в 1998 г. примерно 30% сдававших экзамены стали студентами государственных университетов [Feng Yuan 1999].
В 1978 г. китайское правительство восстановило постдипломное образование и приняло решение о направлении выпускников университетов для дальнейшего обучения за рубеж. В период с 1978 по 1980 г. за границу были посланы 21 тыс. выпускников китайских вузов, к 2006 г. их число уже превысило 700 тыс. чел. [Yoder 2006]. В 1992 г. КПК приняла рекомендации, призванные поддержать студентов и ученых, обучающихся за рубежом, и обеспечить их возращение в Китай после получения ими соответствующей степени. Китайским студентам была гарантирована свобода выезда и въезда в страну, а в качестве стимулов предлагалось финансирование научных исследований и возможность преподавания и проведения исследований в ведущих университетах КНР.
Уже в начале 1980-х гг. была изменена и система финансирования высшего образования. Наряду с сохранением государственного финансирования, для университетов был открыт ряд новых каналов, что позволяло вузам действовать более гибко и получать дополнительные ресурсы для своей деятельности. В этом плане следует выделить 3 основных дополнительных источника финансирования [Law 1996]. Во-первых, это модель вузовских предприятий. Производственные структуры существовали при вузах еще с 1950-х гг. и предназначались для соединения в обучении теории и практики, однако теперь было разрешено использовать прибыль от их деятельности для нужд соответствующего учебного заведения. Во-вторых, вузы получили право брать плату за обучение студентов. Если до 1983 г. существовала лишь одна категория студентов – обучающиеся за счет государственного бюджета, то теперь появились и другие категории – студенты, обучающиеся за счет направивших их в вуз предприятий, а также те, кто сам или с помощью семьи стал оплачивать свою учебу. В-третьих, на конкурсной основе стали выделяться гранты на проведение научных исследований. До 1980 г. большинство наиболее значимых фундаментальных и прикладных исследований проводилось Академией наук КНР, ее научными институтами и отраслевыми институтами различных министерств. Теперь же университеты получили возможность на равных конкурировать с ними за финансирование науки.
Реформа системы высшего образования, получившая короткое, но весьма выразительное название «Решение», явилась отражением тех изменений, которые произошли во внешней среде и носили как идеологический, так и институ- циональный характер. Д. Чан и К. Мок [Chan, Mok 2001] отмечают три основных изменения в государственной политике, оказавших непосредственное влияние на высшее образование: 1) смещение государственной политики в сторону экономического строительства и четырех модернизаций – промышленности, сельского хозяйства, науки и техники и обороны; 2) стремление перейти от приоритета массовости рабочей силы к повышению ее квалификации и научнотехническому совершенствованию производства; 3) переход от экономики, основанной на централизованном планировании, к социалистической рыночной экономике.
«Решение» было первой комплексной реформой системы высшего образования после внедрения в 1952 г. советской модели, и ее основной смысл заключался в устранении «излишнего» государственного контроля над вузами [Mok 2005]. Проведенная реформа включала в себя 5 основных компонентов.
Первым из них была реформа планирования приема в вузы и распределения их выпускников. До 1985 г. органы государственной власти на уровне центра и провинций разрабатывали планы распределения всех выпускников на конкретные места работы. Проблема заключалась в том, что по данной специальности часто выпускалось или слишком много, или слишком мало специалистов. Для децентрализованного рынка требовалась более гибкая и эффективная система. Система распределения сохранилась и после 1985 г., однако поиск рабочих мест стал ответственностью самих университетов, что давало большую степень свободы для выпускников и потенциальных работодателей. Кроме того, лучшие выпускники получили право самим искать себе работу.
Что касается плана приема, то здесь не произошло каких-то кардинальных изменений, однако вузы получили возможность дополнительно к государственному плану приема принимать абитуриентов, направляемых будущими работодателями, и тех, кто готов был самостоятельно оплачивать свое обучение.
Вторым компонентом стало реформирование системы стипендий. Для студентов, обучающихся на бюджетной основе, сохранялась система стипендий, размер которых зависел от потребностей в специалистах по данному направлению, академических достижений конкретного обучающегося, а также от необходимости оказания финансовой помощи детям из бедных семей. В то же время благодаря студентам, самостоятельно оплачивающим свое обучение, число тех, кто не мог претендовать на государственную стипендию, стало постепенно возрастать.
Третьим компонентом стало изменение «нерационального распределения» дисциплин в рамках получения высшего образования. Основная задача заключалась в том, чтобы максимально приблизить учебные планы к потребностям децентрализованной экономики, что было необходимой предпосылкой экономического роста в стране. Особое внимание было уделено развитию тех дисциплин, которыми в значительной степени пренебрегали в условиях централизации государственного управления и экономики – финансы, экономика, политическая наука, право и менеджмент [Lewin et al. 1994].
Изменения учебного плана и методов обучения, ставшие четвертым компонентом реформы, были предназначены для того, чтобы сформировать личность студентов, способных добиться успеха в условиях свободного рынка. Среди этих изменений нужно особо отметить акцент на решение проблем, свободу интеллектуального поиска, самостоятельную работу. Одновременно менялась и структура самих учебных занятий с целью обеспечения лучшего взаимодействия студента и преподавателя, а также предоставлялась необходимая гибкость в выборе курсов и изучаемых дисциплин. В то же время следует отметить, что это направление реформы носило преимущественно экспериментальный характер и было скорее «результатом индивидуальных усилий, а не отражением системной государственной политики» [Lewin et al. 1994: 138]. Большинство университетов продолжали использовать прежние учебные планы и методы, слабо поддерживая активность самих студентов.
Среди всех направлений реформы высшего образования 1985 г. наибольшее значение имел пятый компонент – устранение излишнего государственного контроля над системой высшего образования, поскольку центр принятия решений в этой сфере смещался с центрального правительства на уровень местных органов власти и самих университетов. Основной момент здесь заключался в ликвидации министерства образования, которое играло ведущую роль в осуществлении контроля над образованием в период с 1949 г Вместо него была создана Государственная комиссия по образованию (ГКО), которая отчитывалась о своей деятельности непосредственно перед Государственным советом КНР. Именно ГКО вплоть до 1998 г., когда было воссоздано министерство образования, несла ответственность за руководство, организацию и корректировку китайской системы образования [Xiufang Wang 2003].
В целом, «Решение» представляло собой документ, в котором раскрывались базовые принципы, лежащие в основе трансформации системы высшего образования в Китае. В нем указывались основные проблемы, формулировались вводимые инновации и объявлялись ключевые инструменты, с помощью которых эти инновации должны были быть реализованы в системе высшего образования [Cheng Kai Ming 1986: 269]. Соответственно, органы власти на местах и университеты должны были действовать, руководствуясь этими принципами, и тем самым уходить от существующего статус-кво.
Конечно, несмотря на то что принятие текущих решений практически полностью передавалось на нижние уровни управления, включая университетский, центральное правительство продолжало играть важную роль в образовании. Однако теперь речь шла не столько о прямом администрировании, сколько о выработке стратегии и создании благоприятных условий для ее реализации. При этом надо учитывать тот факт, что «Китай был страной с централизованной государственной властью на протяжении тысячелетий, и эта традиция сохраняется в том, что касается сегодняшних функций Министерства образования» [Xiufang Wang 2003: 33]. В то же время нельзя забывать о том, что в стране практически отсутствует система разделения властей, поэтому в рамках управления высшим образованием осуществляется как законодательная, так и исполнительнораспорядительная функции государственной власти.
Новый этап реформирования китайской системы высшего образования пришелся на 1990-е гг. и в значительной степени был связан с вступлением страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Наиболее заметным изменением на этом этапе стало укрупнение и слияние университетов. Китайское правительство всячески стимулировало подобного рода решения со стороны вузов, а министерство образования организовывало этот процесс и управляло им. Основная идея заключалась в том, чтобы создать более мощные, хорошо управляемые и эффективные институты [Mok 2005]. На место многих отраслевых и специализированных вузов пришли классические университеты, объединявшие естественнонаучные, гуманитарные и социальноэкономические факультеты и подразделения. Число вузов с 556 в 1992 г сократилось до 232 [Tang 1998].
Был введен ряд новых специальностей и дисциплин, необходимых для рыночной экономики. Так, стали присуждаться магистерские степени по деловому администрированию, праву, государственному управлению и целому ряду других специальностей. В 1997 г. министерство образования определило новые направления, по которым стал осуществляться выпуск студентов. Они, в частности, включали в себя философию, экономику, право, образование, литературу, историю, естественные науки, инженерное дело и агрономию.
Одновременно в конце 1990-х — начале нулевых годов наблюдался беспрецедентный рост числа студентов. Число поступивших в вузы в 1998 г. достигло 3,409 млн чел. по сравнению с 856 тыс. в 1978 г. [Ding 2004]. К 2002 г. их число уже достигло 12,14 млн чел. 1 Наибольший рост был отмечен в профессиональных технических колледжах и в частных вузах. Такое китайское «образовательное чудо» объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, система высшего образования постоянно растет и способствует более позднему выходу выпускников школ на рынок труда. Во-вторых, китайцы считают целесообразным использовать личные средства для оплаты обучения своих детей в университетах. Уже к 2000 г. на образование тратилось 250 юаней на каждого городского жителя, а в таких крупных городах, как Пекин, эта цифра достигла 300 юаней [Bin, Yong 2000]. В-третьих, расширение сферы высшего образования способствовало и росту рабочих мест в сфере услуг и торговли, связанных с ним, таких, например, как транспорт, коммуникации, печатное дело и т.п. По расчетам Р Ху и его коллег каждый миллион студентов, обучающихся в вузе, создает и миллион новых рабочих мест [Hu, Chen, Mao 2004].
В результате своего развития система высшего образования Китая стала крупнейшей в мире. По данным Министерства образования КНР в 2015 г. общая численность вузов достигла 2 845, включая 2 553 национальных колледжей и университетов и 292 института образования взрослых 2 . Число студентов по всем формам обучения достигло почти 24 млн чел. Инвестиции в образование в 2015 г. составили около 4% общего ВВП страны 3 . При этом следует подчеркнуть, что именно система высшего образования находится в центре внимания органов государственной власти.
Особое значение придается привлечению в страну иностранных студентов. В 2014 г. их число превысило 377 тыс. чел., приехавших из 203 государств мира и обучающихся более чем в 775 вузах Китая 4 . Наибольший рост приехавших наблюдается из Океании и Африки, в то же время число студентов из США несколько сократилось (на 2,45%) 5 . Интересно отметить, что, объясняя причины своего выбора, иностранные студенты подчеркивают не только высокий уровень китайского высшего образования, но и интерес к стране, добившейся огромных успехов в экономическом и социальном развитии.
Росту и совершенствованию системы высшего образования способствовали два важнейших шага в этом направлении со стороны политического руководства страны и органов государственной власти. Во-первых, это призыв председателя КНР Цзян Цзэминя в мае 1998 г на праздновании 100-летия Пекинского университета к созданию университетов мирового уровня, во-вторых, распоряжение министерства образования об обязательном увеличении приема студентов в различные вузы страны в 1999 г. Именно тогда была поставлена задача, чтобы к 2010 г. не менее 20% выпускников средней школы были охвачены системой высшего образования. Когда эта задача была решена, в соответствии с новыми среднесрочными и долгосрочными планами развития высшего образования к 2020 г. была обозначена новая планка – 40% [Ma Wanhua, Wen Fianbo 2015: 127].
Для того чтобы увеличить «пропускную способность» системы высшего образования, была проведена ее диверсификация с точки зрения поставщиков образовательных услуг. В настоящее время она включает в себя «обычные» вузы, институты образования взрослых, колледжи «минбан» (частные) 1 и независимые колледжи, а также программы по самообучению, предоставляемые радио- и телевизионными университетами. Последние являются своего рода китайскими «открытыми университетами», находящимися под контролем и управлением министерства образования. Обычные вузы и институты образования взрослых являются государственными, колледжи «минбан» и независимые колледжи – частными, однако контролируемыми министерством, органами провинциального и местного управления.
Особо следует подчеркнуть ту роль, которую играет в развитии высшего образования Проект 211. Он был запущен китайским правительством в 1992 г. и предусматривал укрепление 112 университетов и ключевых направлений в качестве национального приоритета в XXI в. Другой проект – Проект 985, осуществляемый в соответствии с задачей, поставленной Цзян Цзэминем в 1998 г., – особо выделяет 49 университетов из этих 112, на которые и была сделана ставка в борьбе за конкурентоспособность китайского высшего образования в условиях его интернационализации [Ma Wanhua, Wen Fianbo 2015: 127]. Еще в 1981 г. КНР перешла на американскую систему дипломов, предусматривающую присуждение степеней бакалавра, магистра или доктора, что также облегчило выход китайских университетов на мировой рынок образовательных услуг.
Финансирование государственных вузов и управление ими осуществляется по принципу двухуровневой системы. Центральное правительство отвечает за выработку соответствующей государственной политики, контроль качества и ключевое финансирование, в первую очередь по таким направлениям, как исследовательские гранты, капитальные вложения в инфраструктуру, базовые оклады профессорско-преподавательского состава и предоставление университетам субсидий. Местные или провинциальные правительства несут ответственность за управление процессом приема, финансирование и трудоустройство выпускников. Необходимо подчеркнуть, что центральное правительство, начиная с 1998 г., полностью финансирует только 9 основных университетов страны. В остальных случаях речь идет лишь о софинансировании с другими уровнями управления.
Экспансия китайского высшего образования, однако, порождает и новые проблемы. Так, в условиях недостаточного государственного финансирования университеты для своего развития набрали в долг колоссальные суммы денег, исчисляющиеся миллиардами долларов. По оценкам специалистов, только в провинции Хуан в 2010 г. вузы должны были банкам 2,25 млрд долл. США2. Однако, каким образом университеты смогут погасить свои долги, до сих пор остается не ясным. С одной стороны, предлагается увеличить финансирование со стороны центрального правительства, что в условиях замедления экономического роста и испытываемых страной определенных финансовых трудностей представляется маловероятным. С другой – речь идет о расширении университетской автономии для того, чтобы дать возможность руководству вузов в большей степени диверсифицировать источники финансирования. Не случайно в ведущих китайских университетах многие специальные программы стали гораздо более дорогостоящими для студентов, чем обучение по обычным программам. Коммерциализация все больше проникает в различные аспекты академической жизни. Преподаватели работают по договорам с предприятиями, создаются коммерческие лаборатории в университетских научных парках, разрабатываются и внедряются в практику программы, которые будут востребованы и смогут принести университетам прибыль. В то же время те отрасли научных знаний, которые неперспективны с коммерческой точки зрения, постепенно отходят на задний план, даже если они нужны для поступательного развития общества и реализации личности.
Как мы уже отмечали, реформирование системы высшего образования в Китае знаменовалось и созданием разветвленной сети частных вузов. Следует подчеркнуть, что они являются частными, поскольку не зависят от государства с финансовой точки зрения, существуя за счет оплаты за учебу и спонсорства со стороны частного бизнеса. Однако в остальном они находятся под контролем государства: центральное правительство регулирует их деятельность, формулирует основные требования к ним и определяет общую политику в отношении частного образования, а органы власти в провинциях осуществляют контроль качества. В этом плане «приватизация» высшего образования в Китае, в отличие от западного понимания этого термина, означает передачу частному сектору ответственности, которая раньше лежала на плечах органов государственной власти на центральном и провинциальном уровнях, или изменение характера государственного вмешательства в деятельность вузов. При этом основная цель подобного рода приватизации – создание больших возможностей для получения образования в условиях растущих потребностей развивающегося рынка. В целом, частные вузы в КНР сталкиваются с серьезными трудностями, и на равных не способны пока конкурировать с государственными университетами, которые продолжают играть доминирующую роль в системе высшего образования страны.
По мнению Министерства образования КНР, в настоящее время в государственной политике в сфере высшего образования должны доминировать пять основных стратегий: реформирование обеспечения образовательных услуг, управление университетами, финансирование вузов, прием на работу и продвижение по службе, внутриакадемический менеджмент [Transformation… 2014: 285286]. Очевидно, что одно из центральных мест в повышении конкурентоспособности высшего образования занимает «качество» тех людей, которые работают в этой системе. И здесь мы видим ряд особенностей, присущих именно Китаю.
Во-первых, работники системы высшего образования в КНР относятся к категории государственных служащих, поэтому все они имеют определенные ранги. При этом интересно отметить, что ранги административного аппарата университетов выше, чем у профессоров. Таким образом, именно университетские «управленцы» имеют большие возможности для использования ресурсов организации и получения ее поддержки.
Во-вторых, число административных работников практически равно числу преподавателей, что свидетельствует о том значении, которое придается в университетах качеству управления.
В-третьих, число профессоров, работающих на полной ставке, достаточно мало (из более чем 2 млн преподавателей высшей школы – лишь 142 тыс. чел. [Ma Wanhua, Wen Fianbo 2015: 131]). Только эта категория преподавателей, абсолютное большинство которых работают в государственных университетах (более 140 тыс.), имеют пожизненные контракты. Со всеми остальными контракты заключаются на определенные сроки (чаще всего на 3 года), однако сам процесс постепенного перехода от пожизненной гарантии работы в вузах, которая существовала в Китае до конца 1970-х гг., к современной системе оказался достаточно сложным и вызвал рост недовольства со стороны преподавателей.
В-четвертых, для Китая по-прежнему характерно крайне высокое соотношение числа студентов, приходящихся на одного преподавателя – 18,84 :1 [Ma Wanhua and Wen Fianbo 2015: 131].
В-пятых, особое внимание в ведущих китайских университетах уделяется приглашению иностранных специалистов, что также является частью государственной политики в отношении высшего образования. По так называемому плану Чанджианг началось приглашение всемирно известных ученых из 100 лучших университетов и исследовательских центров мира на работу (на 3 года или пожизненно) в китайские университеты. При этом следует отметить, что вначале гуманитарные и социальные науки вообще не входили в перечень отраслей знания, по которым приглашались специалисты. И даже сегодня, за исключением нескольких зарубежных ученых-гуманитариев, абсолютное большинство приглашенных специалистов составляют представители естественных наук, математики и инженерных специальностей. Программа спонсируется китайским правительством, а также определенный финансовый вклад в нее делает вносит Гонконг.
В 2006 г. был принят План 111, который призван способствовать работе в стране этнических китайцев, добившихся выдающихся научных достижений за рубежом. Речь идет об 1 тыс. экспертов опять же из 100 ведущих университетов и исследовательских центров мира, которые должны создать инновационные исследовательские группы, интегрированные в китайскую научную среду. Интересно отметить, что руководители должны быть старше 70 лет, а участники — в возрасте до 50. Иначе говоря, речь идет в первую очередь о передаче накопленного опыта.
В целом, необходимо отметить, что на проведение реформ оказывает влияние тот факт, что в китайской культуре социальный статус ученого, преподавателя высшей школы традиционно крайне высок, хотя это далеко не всегда находит свое отражение в их заработной плате. Однако и в этом плане в последние десятилетия наблюдаются серьезные улучшения, что позволяет сделать эту профес -сиональную сферу деятельности более привлекательной для молодежи, хотя по сравнению с другими ведущими университетскими державами Китай здесь сильно проигрывает. Сравнительный анализ 15 стран мира 1 показал, что самая высокая средняя оплата профессорско-преподавательского труда существует в Саудовской Аравии (6 611 долл. США в месяц) и Канаде (6 548), а самая низкая – в Китае (1 182) [Rumbley, Pacheco, Altbach 2008].
Начиная с реализации Проекта 985, правительство Китая вложило миллиарды долларов в трансформацию высшего образования для создания университетов мирового уровня. И эти вложения в принципе окупились. Об этом свидетельствуют все основные мировые рейтинги университетов. Так, в академический рейтинг 500 лучших университетов мира (так называемый Шанхайский рейтинг) входят 32 китайских университета и 5 университетов Гонконга, которые традиционно считаются отдельно от континентального Китая. Для примера вспомним, что российских университетов в этом рейтинге только 2 – МГУ и СПбГУ 2 . В рейтинге лучших университетов мира ( The World University Rankings ) по версии британского издания Times Higher Education из 800 вузов – 36 китайских и 6 гонконгских (российских — 13) 3 . В рейтинге лучших университетов мира QS 2014–2015 из 150 университетов 6 из Китая и 4 из Гонконга (из РФ – 1) 4 .
Таким образом, можно сделать вывод, что опыт Китая убедительно свидетельствует о значимости государственной политики для развития высшего образования в стране. Она же, в свою очередь, детерминируется характером политического режима, теми целями и задачами, которые ставит перед собой правящая элита в отношении социального, политического и экономического развития, а также позиционирования страны в мире.
Список литературы Китайские университеты в условиях трансформации государственной политики: ответ на вызовы глобализации
- Bin C., Yong T. 2000. Higher Education: The Bright Spot in China's Economic Growth. -Chinese Education & Society. Vol. 33. P. 53-60
- Chan D., Mok K.-H. 2001. Educational Reforms and Coping Strategies under the Tidal Wave of Marketisation: A Comparative Study of Hong Kong and the Mainland. -Comparative Education. Vol. 37. No 1. P. 21-41
- Cheng Kai Ming. 1986. China’s Recent Education Reform: The Beginning of an Overhaul. -Comparative Education. Vol. 22. No 3. P. 255-269
- Ding X. 2004. The Challenges Faced by Chinese Higher Education as It Expands in Scale. -Chinese Education and Society. Vol. 37. No 1. P. 36-53
- Epstein I. 1982. An Analysis of the Chinese National Examination: The Politics of Curricular Challenge. -Peabody Journal of Education. No 59. H. 180-189
- Feng Yuan. 1999. National College Entrance Examinations: the Dynamics. -Journal of Education. Vol. 181. No 1. P. 39-57
- Hayhoe R. 1999. China’s universities 1985-1995: A century of cultural conflict. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong
- Henze J. 1992. The Formal Education System and Modernization. -Education and Modernization: The Chinese Experience (ed. by R. Hayhoe). Oxford, England: Pergamon Press
- Hu Shi Ming, Seifman E. 1987. Education and Socialist Modernization. New York: AMS Press. 229 p
- Hu R., Chen G., Mao H. 2004. Taking Stock of Three Years of Expanded Enrollment in Higher Education. -Chinese Education and Society. Vol. 37. No 1. P. 12-35
- Law W. 1996. Fortress State, Cultural Continuities and Economic Change: Higher Education in Mainland China and Taiwan. -Comparative Education. Vol. 32. No 3. P. 377-393
- Lewin K.M., Hui X., Little A.W., Jiwei Z. 1994. Educational Innovation in China: Tracing the Impact of the 1985 Reforms. Essex, England: Longman
- Ma Wanhua, Wen Fianbo. 2015. The Chinese Academic Profession: New Realities. -The Global Future of Higher Education and the Academic Profession (ed. by Ph. Altbach, G. Androushchak, Y. Kuzminov, M. Yudkevich, L. Reisberg). Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 126-159
- Min Weifang 2004. Chinese higher education: The legacy of the past and the context of the future (ed. by P.G. Albach, T. Umakoshi). -Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary Challenges. Baltimore: The Johns Hopkins University. P. 53-83
- Mok K.-H. 2005. Globalization and Education Restructuring: University Merging and Changing Governance in China. -Higher Education. Vol. 50. No 1. P. 57-88
- Orleans L.A. 1987. Soviet influence on China’s higher education. -China’s Education and the Industrialized World (ed. by R. Hayhoe, M. Bastid). Armonk, NY: M. E. Sharpe, Inc. P. 184-199)
- Rumbley L.E., Pacheco I.R., Altbach Ph.G. 2008. International Comparison of Academic Salaries: An Exploratory Study. Chesnut Hill, MA: Boston College, Center for International Higher Education
- Spence J. D. 1990. The Search for Modern China. New York: W. W. Norton & Company, Inc
- Tang J. 1998. A Strategy for Reforming the Higher Education Administrative System. -Chinese Education & Society. Vol. 31. P. 28-35
- Transformation of Higher Education in Innovation Systems in China and Finland (ed. by Yuzhuo Cai, Vuokko Kohtamäki). 2014. Tampere: Tampere University Press
- Xing Lu. 2004. Rhetoric of the Chinese Cultural Revolution: The Impact on Chinese Thought, Culture, and Communication. University of South Carolina Press. 264 p
- Xiufang Wang. 2003. Education in China since 1976. Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc. 308 p
- Yoder B.L. 2006. Globalization of Higher Education in Eight Chinese Universities: Incorporation of and Strategic Responses to World Culture. URL: http://d-scholarship.pitt.edu/9177/1/Yoder_ETD_2006.pdf