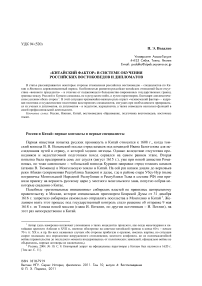«Китайский фактор» в системе обучения российских востоковедов и дипломатов
Автор: Подалко Петр Эдуардович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые стороны становления российских востоковедов - специалистов по Китаю и Японии в дореволюционный период. Особенностью развития российско-китайских отношений было отсутствие «военного прецедента» - в отличие от подавляющего большинства современных государственных границ, граница между Россией и Китаем сложилась не в результате войн, а путем переговоров, благодаря дипломатическим усилиям обеих сторон. В этой ситуации чрезвычайно важную роль играет «человеческий фактор» - кадровая политика и осуществление подготовки всесторонних специалистов, могущих при необходимости превращаться из ученых в дипломатов, из дипломатов - в педагогов, журналистов, а также совмещать несколько функций в своей профессиональной деятельности.
Россия, япония, китай, востоковедное образование, подготовка востоковедов, восточные языки
Короткий адрес: https://sciup.org/14737462
IDR: 14737462 | УДК: 94
Текст научной статьи «Китайский фактор» в системе обучения российских востоковедов и дипломатов
Россия и Китай: первые контакты и первые специалисты
Первая известная попытка русских проникнуть в Китай относится к 1608 г ., когда том ский воевода В . В . Волынский послал отряд казаков под командой Ивана Белоголова для ис следования путей в страну , о которой ходили легенды . Однако вследствие отсутствия про водников и недостаточной подготовки поход сорвался на самом раннем этапе . Вторая попытка была предпринята семь лет спустя ( август 1615 г .), уже при новой династии Рома новых , но тоже самовольно – тобольский воевода Куракин направил отряд томских казаков ( атаман В . Тюменец ) в Монгольскую землю и Китай . На сей раз казаки дошли до верховьев реки Абакан ( современная Республика Хакасия ) и далее , где в районе озера Убсу - Нур ( ныне пограничье Монгольской Народной Республики и Республики Тыва в составе РФ ) они при няли присягу на верность русскому царю у местного монгольского хана , попутно собрав не которые сведения о Китае .
Подобные « региональные инициативы » сибирских властей не нравились центральному правительству в Москве , которое специальным приговором Боярской Думы от 31 декабря 1616 г . запретило сибирякам самовольно отправлять посольства в Монголию и Китай 2. Же ланием взять этот процесс под государственный контроль стало решение об отправке 9 мая 1618 г . из Томска новой миссии ( глава И . Петелин , по другим источникам – И . Петлин ), на этот раз непосредственно в Китай .
Первого сентября 1618 г . русские дипломатические представители впервые в истории вступили на территорию Пекина , где они пробыли в общей сложности почти два месяца ( до 24 октября 1618 г .). Возвращаясь на родину , они везли с собой письмо императора Чжу Иц - зюнь ( династия Мин ), которое , однако , не было прочитано в Москве вплоть до 1675 г . из - за отсутствия там переводчиков с китайского языка . Так впервые обозначилась проблема отсут ствия переводчиков , знакомых с языком Поднебесной империи .
Дорожные записи И . Петелина , которые он вел в течение всей экспедиции , были впервые изданы в Англии в 1625 г . [Purchas, 1625. Р . 797], и только в 1818 г . – в России 3. В 1689 г . был заключен Нерчинский договор – первый договор Китая с западной державой ( каковой , без сомнения , являлась для Поднебесной даже допетровская Россия ), почти на двести лет опередив подобные договоры с основными европейскими государствами . Его очевидная не выгодность для России , приведшая к территориальным уступкам в Приамурье , во многом была обусловлена отсутствием у русской стороны знатоков китайского языка и обряда .
Таким образом , потребность в обученных кадрах была слишком остра , чтобы и далее ос таваться нерешенной , и 18 июня 1700 г . был выпущен указ Петра I митрополиту Киевскому Варлааму Ясинскому о наборе молодых людей для изучения китайского и монгольского язы ков при Православной миссии в Пекине с целью распространения христианства в Китае , а также подготовки будущих драгоманов ( переводчиков ) для дальнейшего развития двусто ронних отношений .
Первая официальная Православная миссия в составе 10 человек , включая семерых при четников ( будущих первых русских обученных « китаистов »), прибыла в Пекин в январе 1716 г . 4 Впоследствии статус русской миссии был закреплен Кяхтинским договором (1728 г .), согласно которому правительство Китая разрешило присылать каждые десять лет в Пекин миссию в составе все тех же десяти человек : архимандрита , двух иеромонахов , иеро диакона , двух причетников и четырех семинаристов , в обязанности которых , помимо офици альных православных функций , входило также изучение китайского языка ( этим , в частно сти , объясняется тот факт , что первыми специалистами - китаеведами в России стали лица духовного звания , ими же созданы первые двуязычные словари 5). С течением времени ки тайский язык и вообще все китайское стало рассматриваться как базовые знания для изуче ния любой страны и культуры Дальнего Востока , что вызвало появление « двусоставных » отделений восточной специализации в российских университетах ( китайско - монгольское , китайско - маньчжурское и пр .).
«Китайский акцент» российского японоведения
Официальная история преподавания в России японского языка и основ японской культу ры почти столь же длинна , как и в случае с Китаем , но действительные результаты в течение длительного времени были более чем скромны .
Восьмого января 1702 г. в селе Преображенском произошла известная встреча Петра Великого с потерпевшим кораблекрушение у берегов Камчатки японцем Дэмбэем, которая, как принято считать, положила начало правительственному интересу к перспективе установления торговых и дипломатических отношений с Японией и заложила основы преподавания в России японского языка. В отличие от китайского, оно уже на первых порах осуществлялось сразу же носителями этого языка, каковыми являлись и полуграмотный рыбак Дэмбэй, и все последующие японцы, попадавшие в Россию аналогичным путем. Такие факторы, как политическая закрытость и географическая удаленность Японии, а главное – отсутствие реальной потребности в установлении серьезных двусторонних отношений, привели к тому, что Шко- ла японского языка, открытая в Петербурге в соответствии с приказом Петра 6, просуществовав более ста лет, в 1816 г. закрылась 7 как не оправдавшая надежд. Положение начало меняться только на рубеже XIX–ХХ вв. – и не в столице, а на далекой периферии.
Перед открывшимся 21 октября 1899 г . во Владивостоке Восточным институтом стояла задача « подготовлять учащихся в нем лиц к службе в административных и торгово промышленных учреждениях Восточно - Азиатской России и прилегающих к ней госу дарств », для чего наряду с преподаванием живых языков стран Дальнего Востока здесь впер вые ставилась задача подготовки всесторонних специалистов по этим странам [ Полное Собрание …, 1902. C. 18]. При этом язык как таковой не являлся единственным приоритетом . Так , в Петербургском университете японский язык к тому времени уже преподавался ( с 1888 г . 8), но факультативно , по желанию студентов и без должного усердия ( и без доста точной квалификации ) преподавателей ; обязательным же предметом он стал только в 1908 г . 9 В то же время в Петербурге существовала давняя и хорошая традиция изучения других восточных языков , в частности китайского и монгольского , и первыми российскими японоведами ( в свою очередь подготовившими несколько лет спустя первый « дипломиро ванный » выпуск Восточного института ) были фактические китаеведы , окончившие Восточ ный факультет Петербургского университета по китайско - маньчжурско - монгольскому раз ряду : Е . Г . Спальвин и Д . М . Позднеев .
Очевидно , что подобное « многочленное » строение отделений Восточного факультета в Петербурге оказало определенное влияние на новый Восточный институт , где уже после первого ( общеобразовательного ) курса существовало разделение на самостоятельные китай ско - японское , китайско - корейское , китайско - маньчжурское и китайско - монгольское отделе ния , и три последующих года шла фактическая специализация , при сохранении китайского элемента в качестве базового ( с точки зрения происхождения языков и культур региона ).
Китайский язык играл в институте роль своеобразной « латыни Дальнего Востока », и де тальное ознакомление с Китаем и китайскими реалиями являлось обязательным условием для всех студентов независимо от языка дальнейшей специализации . Общие для всех отделе ний предметы включали также английский язык ( по желанию – еще и французский ), бого словие , курсы общей и коммерческой географии , этнографии , политической и новейшей ис тории стран Восточной Азии , государственное устройство России и ведущих стран Европы , международное гражданское и торговое право , историю Дальнего Востока , политэкономию , счетоводство , товароведение . Среди специальных предметов японоведы , к примеру , изучали обзор политического устройства и торгово - промышленной деятельности Японии . Для со вершенствования изучаемых языков студенты в период летних каникул направлялись в соот ветствующие страны . При этом если преподаватель должен был посещать изучаемую им страну не реже одного раза в три года , то для студентов возможность проведения самостоя тельных исследований во время каникулярных командировок была предусмотрена уже после первого курса [ ДВГУ , 1999. С . 15, 20, 24]. Это было логично : срок обучения составлял всего четыре года , а дальнейшее прохождение карьеры зависело от множества факторов , далеко не всегда благоприятных к бывшим студентам . Интересно , что уже на втором курсе студенты и слушатели японского отделения должны были уметь читать японские газеты и журналы , раз бираться в скорописи , вести разговор на бытовые темы , а ко времени окончания последнего , 4- го курса , владеть иероглификой в объеме до 3 000 знаков , переводить военно - политические статьи , составлять деловые бумаги , знать основы частной и официальной переписки [ Там же . C. 28].
Даже беглый взгляд на перечень предметов и в особенности на требования , предъявляв шиеся к объему знаний выпускников - японоведов , заставляет , с одной стороны , усомниться в реальном усвоении ими всего перечисленного ( поскольку указанные выше нормы сущест венно превышают те , которые практикуются в настоящее время для выпускников востоко ведческих факультетов российских университетов ), а с другой стороны – заставляют заду маться о возможных способах достижения этих знаний . Думается , что не последнюю роль в этом играло изучение китайского языка и культуры , особенно если речь идет об усвоении иероглифики , скорописи , работе с текстом и т . д .
Стоит отметить и еще один важный момент : необходимость в специалистах по Японии и Корее во многом возникла в связи с внезапной ( как для большинства современников , так во многом и для самой русской администрации ) активизацией российской внешней политики в Дальневосточном регионе . Потребность в маньчжуроведах и даже монголоведах была , ско рее всего , на деле не столь велика , да и сами эти языки не представлялись в то время чрез мерно важными и трудными для усвоения . Но никто не сомневался в важности , как экономи ческой , так и политической , для России китайского соседства , и последовательная подготовка специалистов по « меньшим » языкам / странам позволяла в случае необходимости быстро перепрофилировать нужное количество монголо -, маньчжуро -, японо - и корееведов на китайскую тематику .
Это предположение автора статьи отчасти подтверждается как местами последующей службы офицеров - слушателей Восточного института ( вне зависимости от отделения основ ной специализации ), так и беглым обзором научных и популярных работ , опубликованных выпускниками разных отделений Восточного института в последующие годы [ Русские воен ные востоковеды …, 2005]. Однако вызывает удивление отсутствие в Восточном институте собственно китайской специализации , т . е . подготовки узкопрофессиональных китаистов , без последующего перехода на какой - либо другой язык 10. Очевидно , это было вызвано как со мнениями в отношении политической будущности самого китайского государства в тот пе риод , так и сугубо утилитарными задачами , стоявшими перед российской администрацией на Дальнем Востоке ( взаимодействие с маньчжурской верхушкой континентального Китая , стремление проникнуть в глубь Корейского полуострова , зарождающиеся контакты с Япони ей и транзит через Монгольскую территорию обусловливали повышенный интерес к соот ветствующим языкам и культурам ). Таким образом , отказывая Китаю в рассмотрении его как равноправного партнера , российская сторона признавала важность изучения Китая и китай ского языка для освоения восточных окраин и закрепления на берегах Тихого океана .
В то же время процесс обучения двум восточным языкам был крайне сложен как из - за чисто языковых трудностей ( по сути , объединяющим моментом у всех названных выше язы ков была только китайская иероглифика , к тому же не столь обязательная для практического применения у монголо - и маньчжуроведов ), так и за отсутствием должного опыта у препода вателей , и недостаточным уровнем общей подготовленности большинства студентов и слу шателей .
Результатом накопившихся противоречий стало обращение директора Восточного института А. В. Рудакова в марте 1911 г. к приамурскому генерал-губернатору Н. Л. Гондатти по вопросу о необходимых изменениях в учебных планах института, составленное на основании восьми докладных записок, составленных его тогдашними преподавателями, считавшими подобный метод нерациональным. В качестве главной причины указывалось, что студенты не успевают усваивать учебный материал, и в получаемых ими знаниях образуются существенные пробелы [Еланцева, 2007. С. 25]. Результатом стали изменения в учебных программах института, выразившиеся в неосуществленной по ряду причин попытке введения новой, японо-корейской специализации (взамен китайско-корейской и китайско-японской), и постепенном изъятии «китайского компонента» из процесса обучения другим языкам [Там же. С. 26]. Процесс этот завершился в 1920-х гг., и с тех пор вузы России избегают вводить в свои учебные программы преподавание двух и более дальневосточных языков в рамках про- фессиональной специализации студентов 11.
Дипломаты и военные
Царская Россия в начале ХХ в . в период наибольшей активизации своей дипломатиче ской деятельности на Дальнем Востоке имела , помимо миссий в Пекине ( с 1861 г .), Токио ( с 1908 г . – в ранге посольства ) и Сеуле ( с 1885 г .), также множество консульств и консуль ских пунктов , а именно : 24 – на территории Циньского Китая 12 ( из них 5 – в провинции Синьцзян и 8 – в Маньчжурии ), 4 – в Монголии ( также бывшей тогда в формальном подчи нении Циньской империи ) 13, 5 – в Корее и 5 – в Японии ( при этом консульства в Корее ока зались переподчинены посольству России в Токио с момента включения Кореи в состав Японской империи согласно Акту о присоединении Кореи от 1910 г .).
Согласно подсчетам американского исследователя Дж . Ленсена , всего на Дальнем Восто ке в период с 1858 ( заключение Айгуньского договора с Китаем , установившего границу по р . Амур ) по 1924 г . ( последний год работы « старого » посольства в Токио с последующим признанием Советского правительства всеми странами региона ) в странах Дальнего Востока прослужил 331 русский дипломат ( включая гражданских и военных представителей ), из ко торых более половины работали в различных районах Китая и Монголии , около 20 % – в Японии и около 15 % – в двух и более странах [Lensen, 1968. P. 3–8]. Из 331 дипломата 85 человек ( т . е . почти каждый четвертый ) прослужили на Дальнем Востоке десять и бо лее лет .
Применительно к Китаю из 15 полномочных представителей , посланников и чрезвычай ных посланников России ( включая адмирала графа Е . В . Путятина , заключившего Пекинский договор 1860 г .) только шестеро до назначения в эту страну не имели опыта работы в Вос точной Азии ; прочие либо знакомились с этой страной в качестве языковых стажеров , либо успели пробыть какое - то время на низших должностях в Китае , Японии или Корее и тем са мым подготовиться в достаточно широком историко - культурном плане к занятию новой должности .
В противоположность этому из десятка русских посланников и послов в Японии за тот же период только двое – Р . Р . Розен и В . Н . Крупенский – имели опыт предшествующей работы на Востоке ( в Японии и Китае , соответственно ) 14. Именно они оказались в итоге наиболее признаны с точки зрения профессионального авторитета как в глазах своего начальства , так и японских властей : Р . Р . Розен участвовал в Портсмутской мирной конференции 1905 г . в ка честве второго официального представителя России ( первым был назначен будущий граф С . Ю . Витте ), а В . Н . Крупенский ( назначен послом в Японию в 1916 г .), по некоторым дан ным , даже успел побыть некоторое время дуайеном всего дипломатического корпуса в То кио , перед тем как в 1921 г . покинул страну .
Следует также отметить , что многие российские дипломаты , служившие в Японии , попа дали туда через Китай , пройдя там стажировку либо прослужив некоторое время в одном из российских представительств и благодаря такой « обработке » китайской средой как бы осво ившись в Азии [ Русские военные востоковеды …, 2005].
По выражению одного из таких дипломатов , знакомых с жизнью и работой в обеих на званных странах , Д . И . Абрикосова 15, ставшего последним ( после отъезда В . Н . Крупенско - го осенью 1921 г .) представителем « старой России » в Японии , признаваемым местными властями и проведшим на Востоке в общей сложности свыше тридцати лет (1912–1913, 1916–1946), « русские отчего - то чувствуют себя в Китае более по - свойски », чем в Японии 16.
Нужен ли сейчас китайский язык японоведам?
В процессе работы автор провел опрос ряда своих коллег - востоковедов , живущих и рабо тающих в течение десяти и более лет в различных районах Японии (9 человек , включая само го автора ) и России (3 человека ), на предмет отношения их к китайскому языку с точки зре ния его теоретической важности и практической необходимости для профессиональных японоведов .
Опрошенные 12 человек являются выпускниками пяти университетов из пяти регионов России – Петербург , Москва , Екатеринбург , Новосибирск , Владивосток – и , таким образом , представляют разные школы преподавания восточных языков . Среди них наблюдается как определенная преемственность традиций ( Петербург – Владивосток ), так и совершенная са мостоятельность подхода к преподаванию японского языка ( Новосибирск и Екатеринбург , из которых последний представляет самую молодую школу подготовки востоковедов из при нявших участие в опросе ).
В состав респондентов вошли 10 японоведов ( из которых 9 человек в настоящее время живут и работают в Японии ) и два китаеведа ( оба живут и работают в России ). Период обу чения респондентов охватывает 45 лет (1953–1997), срок обучения каждого – 5 лет , срок обучения профилирующему языку – 5 лет . Помимо этого китаеведы изучали японский язык как второй восточный (2 чел ., срок обучения 2 года ); японоведы – китайский язык как второй восточный (3 чел ., срок обучения 2 года ). При этом письменный язык бунго изучался как за мена китайскому языку в качестве второго восточного (3 чел ., срок обучения 1 год , включая занятия по предмету камбун ); не имели второго восточного языка 4 чел .
Относительно необходимости и важности преподавания китайского языка студентам - японоведам получены ответы ( включая ответы китаеведов ): « нужен » – 6, « не нужен » – 1, « нужен с оговорками » – 5 ( интересно , что практически все оговорки относятся к категории : « может быть , всем этот язык и не обязательно изучать , но лично мне он в дальнейшем ока зался нужен » (3 ответа ), либо как вариант : « нужен тем , кто собирается заниматься наукой , а не практической деятельностью » (1 ответ ). Также один из полученных ответов оставляет от крытым вопрос необходимости изучения второго восточного языка (« не знаю , нужен ли он »), но одновременно признается , что « культура и философия Китая – нужны »). При этом полностью отрицательный ответ получен от японоведа , не изучавшего в прошлом китайский язык ни в какой форме , включая бунго / камбун .
Не претендуя на абсолютный характер полученных результатов , можно констатировать определенную тенденцию осознания японоведами важности изучения китайского языка и культуры по мере вхождения в свою профессиональную деятельность . К сожалению , суще ствующая в настоящее время в России система преподавания восточных языков не предпола гает сколько - нибудь серьезного изучения японоведами китайского языка как « второго вос точного » (« вторым иностранным языком » обычно является английский , кроме случаев , когда второй язык вообще не предусмотрен учебной программой ).
Вместо заключения
Четвертого ноября 2008 г. в Шанхае прошел Международный симпозиум «300 лет преподавания русского языка в Китае». Более 200 специалистов в области преподавания русского языка рассмотрели итоги развития процесса обучения русскому языку в Китае за 300 лет, оценили его ближайшие перспективы с точки зрения потребностей сегодняшнего и завтрашнего дня. При этом участники отметили, что в китайских вузах постоянно расширяются масштабы приема абитуриентов на русские отделения, что чрезвычайно показательно с точки зрения реального спроса и предложения. Особенным вниманием были отмечены на симпозиуме методы подготовки квалифицированных русистов с целью удовлетворения потребностей дипломатии, внешнеторговых контактов и различного рода программ в сфере международных обменов 17.
В тот же день (4 ноября 2008 г .) в Японии , в г . Хакодатэ на территории местного филиала Дальневосточного государственного университета открылся « Русский центр » – первый в Японии и одиннадцатый по счету среди подобных центров , создаваемых в рамках междуна родного культурного проекта под эгидой фонда « Русский мир » на территории России и в за рубежных странах 18.
Думается , что несоизмеримость масштабов двух вышеназванных мероприятий ( несмотря на совпадение дат и некоторое внешнее сходство тематики ) является достаточно типичным примером разности масштабов явлении и событий , которая возникает почти всегда , если речь заходит о России , с одной стороны , и Китае и Японии ( как объектах сравнений ) – с другой .
Приведем еще несколько примеров . В 1977 г . Министерство высшего и среднего специ ального образования СССР в честь 10- летия МАПРЯЛ ( Международной Ассоциации препо давателей русского языка и литературы ) учредила медаль имени А . С . Пушкина для вручения российским и зарубежным общественным и государственным деятелям , ученым , педагогам , внесшим значительный вклад в распространение русского языка , литературы и – как резуль тат последнего – русской культуры в зарубежных странах . Ежегодно присуждается не более 10 медалей ( первое награждение состоялось в Берлине летом 1979 г .). В последние годы все большее количество этой и подобных наград уезжают в КНР ; так , в 2008 г . медаль получили 4 китайских русиста , в том числе директор Института русского языка Пекинского универси тета иностранных языков Ши Тэцян и директор Института русского языка университета Хэйлунцзян , Ван Минъюй . Все это является подтверждением возрастания интереса к изуче нию русского языка , истории и культуры России , начавшегося в Китае с середины 1980- х гг .
На волне интереса к России появилось много новых учебных пособий , создаваемых с уче том изменений , происходящих в мире . Так , в 1986 г . был выпущен учебник « Страноведение Советского Союза » ( редактор Ли Миньбинь , профессор Пекинского ун - та ), а в 1996 г . – « Курс лингвострановедения » ( редактор Тань Линь , профессор ун - та Цзилин ). Готовятся и другие пособия и учебники . Думается , что настало время и России откликнуться на этот ин терес южного соседа соответствующим вниманием к его языку и культуре , тем более , что этому есть неплохие прецеденты , в том числе – и в недавнем прошлом . Надежду на это все ляют официально объявленные в наших странах « лингвистическими » два последних года : в 2009 г . прошел Год русского языка в Китае , а в 2010 г . – Год китайского языка в России .