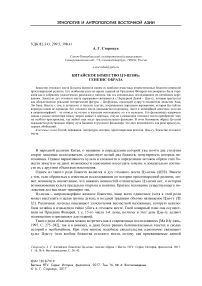Китайское божество Цэ-шэнь: генезис образа
Автор: Сторожук Александр Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнология и антропология Восточной Азии
Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Божество отхожего места Цэ-шэнь является одним из наиболее известных второстепенных божеств китайской простонародной религии. Его особенная роль во время гаданий на Празднике Фонарей неоднократно была отражена как в собраниях классических рассказов и записок, так и в специальных исследованиях по китайским верованиям. Зачастую дух отхожего места неразрывно связывается с Пурпурной Девой - Цзы-гу, которая трактуется как обожествление реальной исторической фигуры - Ци-фужэнь, последней супруги основателя династии Хань Лю Бана. Вместе с тем, в дотанских и танских текстах, посвященных народным верованиям, история Ци-тайхоу впрямую никак не отражена. Бог отхожего места описывается по-разному, часто в зооморфной ипостаси; если же в антропоморфной - то отнюдь не только в женском воплощении, но и в мужском. Его функционал напрямую связан с ролью медиатора между миром живых и мертвых, откуда и символика отхожего места приобретает черты особого пространства, где любой знак несет предсказательную функцию. В этом бытование образа Цэ-шэня оказывается родственным образу духа Банника из русского фольклора, что дает возможность для ряда кросскультурных обобщений.
Китай, верования, литература, история, простонародная религия, цзы-гу, божество отхожего места
Короткий адрес: https://sciup.org/147219763
IDR: 147219763 | УДК: 82-343,
Текст научной статьи Китайское божество Цэ-шэнь: генезис образа
В народной религии Китая, о названии и определении которой уже почти два столетия спорят западные исследователи, существует целый ряд божеств, популярность которых несомненна. Однако вариативность культа и сложности в определении истоков образа этих божеств зачастую не дают возможности однозначно воссоздать генезис и доказательно соотнести их с другими объектами поклонения.
Одним из такого рода божеств является и дух отхожего места Цэ-шэнь ( 廁神 ). Вместе с тем, если обратиться к известным исследованиям по истории простонародной религии, может возникнуть впечатление, что никаких неясностей относительно Цэ-шэня нет, и история возникновения культа предельно открыта и понятна. Краткое изложение существующего положения дел выглядит примерно так.
Цэ-шэнь – антропоморфное женское божество, чаще всего одиночное (хотя в этой роли может выступать и целая группа духов), в поздней традиции обычно называемое Цзы-гу ( 紫 姑 ). Различные легенды описывают злоключения несчастной наложницы, которую невзлюбила хозяйка и измыслила тайно убить в отхожем месте. Свой коварный план она осуществила на Праздник Фонарей, т. е. 15-го числа 1-й луны, поэтому в этот день Цзы-гу делают подношения и призывают для гаданий.
Такого рода объяснения можно встретить как в современных исследованиях [Ма Шу-тянь, 1997. С. 275–282], так и в цинских, и даже более ранних бытописательных текстах и сводах историй о необычайном. При этом многие подобные свидетельства однозначно связывают культ Цзы-гу (или вообще божества отхожего места, потому как присваиваемые данной
Сторожук А. Г. Китайское божество Цэ-шэнь: генезис образа // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 4: Востоковедение. С. 36–43.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 4: Востоковедение
сущности именования могут разниться при общем их генетическом родстве) с конкретным историческим персонажем – Ци-фужэнь ( 戚夫人 , 224–194 до н. э.), наложницей Гао-цзу ( 高 祖 ), т. е. Лю Бана ( 劉邦 , 256–195 до н. э.), основателя династии Хань ( 漢 , 206 до н. э. – 210 н. э.). Вдовствующая императрица Люй (Люй-тайхоу, 呂太后 , 241–180 до н. э.) возненавидела ее, и после смерти Лю Бана предала жутким мучениям, обезобразив и поместив доживать свой век в отхожем месте. Обожествленная наложница Ци и есть дух отхожего места, которой на протяжении уже двух тысячелетий и поклоняются китайцы; ее же и призывают на Праздник Фонарей для ответа на вопросы гадающих.
Перед нами вполне стройная и доказательная версия, не предполагающая дальнейших исканий и базирующаяся на широко распространенном логическом следствии: мученическая смерть может породить обожествление невинной жертвы в качестве небесного покровителя некоего места / рода деятельности / качества и пр., связанных с личностью обожествленного. Собственно китайская традиция дает бесконечное число подобных примеров, начиная с генерала Гуань Юя ( 關羽 , 160–220), казненного правителем царства У ( 東吳 ) Сунь Цюанем ( 孫權 , 182–252) и впоследствии почитавшегося как Небесный воевода, защитник, покровитель и даже один из важнейших богов богатства.
Тем не менее, в случае с Цэ-шэнем не все выглядит таким явственным, как могло бы показаться, и требует некоторого разъяснения. Например, отчего к богине отхожего места обращаются именно с гаданиями? Как связан этот обряд с Праздником Фонарей, и почему именно первое новолуние года, а не какая-либо историческая дата из биографии Ци-фужэнь выбрана для ее поминовения?
Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, обратимся к генезису образа Цэ-шэня и начнем с дошедших до нас сведений о самой Ци-фужэнь. Ци-фужэнь, наложница Лю Бана, была матерью его сына Лю Жу-и ( 流如意 , 208–194), также после смерти императора умерщвленного по приказу Люй-тайхоу. Саму же Ци-фужэнь ждала страшная участь: вдовствующая императрица после различных унижений и издевательств велела отрезать ей руки и ноги, выколоть глаза, сжечь уши, напоить зельем, вызывающим немоту, и оставить доживать в отхожем месте, называя ее теперь «человек-свинья» ( А^ жэнь-чжи ) 1 [Сыма Цянь, 2004. Т. 1. С. 144].
Об этом же, но более подробно, говорится в «Истории Хань» 2 [Бань Гу, 2004. Т. 1. С. 634], а также в цз. 97 (67-й раздел биографий ( 列傳 «Ле чжуань») 3 [Бань Гу, 2004. Т. 3. С. 1972– 1973]. Кстати, там местом заточения Ци-фужэнь называется не выгребная яма, а некое место ^М цзюй юй (букв. «площадка для игры в мяч»), которую поздние комментаторы объясняли как подземное узилище. В любом случае никаких прямых ассоциаций с ассенизаторской тематикой, постулируемой у Сыма Цяня, здесь нет. Кстати сказать, ни один текст не говорит и о самой смерти Ци-фужэнь: предполагается, что она скончалась после перенесенных увечий, но время и обстоятельства этого никак не зафиксированы.
Участь несчастной наложницы Ци произвела на современников невероятно сильное и тяжелое впечатление: сын вдовствующей императрицы Люй, император Хуй-ди ( 惠帝 , 211– 188 до н. э.), по приглашению матери созерцавший «человека-свинью», зарыдал, около двух дней пролежал больным и затем объявил Ци-тайхоу: «Так не [должно] поступать [среди] людей. Я ваш сын, императрица, никогда не смогу теперь больше управлять Поднебесной!» 4 [Бань Гу, 2004. Т. 3. С. 1973]. После этого он начал вести беспорядочную жизнь, не возвращался к монаршим обязанностям и через семь лет скончался [Там же].
Говоря об опасности для бывших фавориток, которая может исходить от вдовствующей императрицы, вспоминают о «человеке-свинье» и после восстановления порядка в стране, уже в пору 5-го ханьского императора Вэнь-ди ( 文帝 , 203–157 до н. э.) 5 [Сыма Цянь, 2004.
Т. 2. С. 1235]. Имеются и более поздние отсылки к истории смерти Ци-фужэнь, вплоть до танского времени.
Однако же в народных верованиях последующих эпох, вплоть до времени Тан включительно, история Ци-тайхоу впрямую никак не отражена. Бог отхожего места описывается по-разному, часто в зооморфной ипостаси; если же в антропоморфной – то отнюдь не только в женском воплощении, но и в мужском, например, как строгий сановник с присными.
Так, во фрагменте собрания «Сад диковин» ( 異苑 «И юань») литератора V в. Лю Цзин-шу ( 劉敬叔 ) дух отхожего места, явившийся некоему Тао Каню, – вельможа в пурпурной одежде, окруженный пышной свитой. В руках у него печать, оставляющая оттиск 公 гун («князь»); называет он сам себя Хоу-ди ( 後帝 , букв. «Задний государь») 6 [И юань, 1996. С. 42].
В танских текстах 7 Цэ-шэнь может являться как значительному числу очевидцев, так и непосредственно герою повествования. Так, в рассказе «Дяо Мянь» ( 刁緬 ) дух отхожего места показывается колоссальному числу людей (в тексте говорится, что таковых было более тысячи) в виде огромной свиньи, исполненной глаз по всему телу 8 [Тайпин гуан цзи, 1959. Т. 4. С. 2648].
В другом рассказе – «Ван У-ю» ( 王無有 ) – Цэ-шэнь – это человек с глубоко посаженными глазами, огромным носом, тигриной пастью и птичьими когтями 9 [Там же. С. 2648–2649]. В рассказе «Ван Шэн» ( 王昇 ) дух выгребной ямы – существо с огромными ушами, впалыми глазами, тигриным носом, кабаньими клыками и лиловым рябым лицом 10 [Там же. С. 2649]. В рассказе «Цянь Фан-и» из сборника «Продолжение записей о таинственном и удивительном» ( 續玄怪錄 «Сюй Сюаньгуай лу») Ли Фу-яня ( 李復言 , VIII–IX вв.) божество туалета описывается как человечек ростом в чи 11 со встрепанными волосами, одетый в темное [Сюань гуай лу, 1982. Цз. 3. С. 173].
При этом и поведение, и свойства божества описываются совершенно по-разному. В рассказе «Дяо Мянь» никто из видевших духа нимало не пострадал, а главный герой, поднеся Цэ-шэню дары и совершив моление, получает существенное повышение в должности, и с этой поры карьера его неизменно идет в гору [Тайпин гуан цзи, 1959, Т. 4. С. 2648–2649]. В рассказах «Ван У-ю» и «Ван Шэн» дела обстоят противоположно: встреча с духом отхожего места истолковывается Ван У-ю как дурное предзнаменование и говорит о скорой его кончине. Действительно, проходит чуть более ста дней, и герой рассказа умирает [Тайпин гуан цзи, 1959, Т. 4. С. 2649]. В случае с Ван Шэном смерть настигает героя еще быстрее, поскольку «нет такого, кто немедля бы не умер, увидев Цэ-шэня» [Там же]. Для Цянь Фан-и беседа с божеством отхожего места проходит без особых потерь только потому, что герой сам очень силен духом, и потому, что Цэ-шэнь советует ему, как избежать пагубных последствий их общения и быстро восстановить силы, но для других подобная встреча грозит стать фатальной [Сюань гуай лу, 1982. Цз. 3. С. 174].
Все это вместе свидетельствует об особой роли Цэ-шэня как предвестника скорой гибели, а значит, и как своеобразного связующего звена между миром живых и миром мертвых. Роль подобного медиатора, очевидно, неразрывно связана с символикой отхожего места в традиционной китайской культуре вообще. Увиденное и услышанное в туалете или связанное с туалетом истолковывается как значимое и вещее событие. Услышать пение кукушки в туалете – к несчастью [И юань, 1996. Цз. 3. С. 15]; увидеть сон, в котором фигурирует отхожее место, – получить знак судьбы (именно такой сон растолковывают Шэнь Цин-чжи (沈慶之) как предопределенность к успеху, но не скорому, ибо «Задний государь», дух туалета, – намек на то, что все случится «после» 12) [И юань, 1996. Цз. 7. С. 72].
В этом же контексте, вероятно, следует рассматривать и интерпретацию истории Цзы-гу (см. рисунок). В «Саду диковин» говорится о том, что предания о Цзы-гу идут из древности: когда она вышла замуж, старшая жена возненавидела ее, заставляла делать грязную работу, и бедная девушка «от душевного волнения» умерла как раз в 15-й день Нового года. Поэтому в этот день люди делают ее изображение и призывают ночью возле отхожего места или свинарника, говоря «Цзы-сюя дома нет» (Цзы-сюй – имя ее мужа), «Госпожа Цао уехала к родным» (Цао звали старшую жену), «барышня может показаться». Здесь же совершают прино- шения и гадают: если нарочно сделанная фигурка божества вдруг шевельнется, значит, дух явился и ответит на вопросы [И юань, 1996. Цз. 5. С. 44–45].
Нужно отметить, что этот текст с небольшими изменениями повторяется во фрагменте из «Описания годового календаря празднеств и обрядов в Цзинчу» 13 [Цзинчу суйши цзи, 1987. С. 25–27]. Ни имени, ни места рождения, ни других подробностей Цзы-гу в тексте не указывается. В поздних редакциях такие сведения появляются с отсылкой к некоему своду «Записи, проясняющие диковинное» ( 顯異錄 «Сянь и лу»). В частности, сообщается, что Цзы-гу родом из уезда Цайян ( 菜陽 ), что фамилия ее – Хэ ( 何 ), имя – Мэй ( 媚 ), второе имя – Ли-цин ( 李 卿 ), что вышла замуж она за Ли Цзина ( 李景 ), а его первая жена из зависти тайно убила ее в 15-й день 1-й луны в отхожем месте. Небесный император посочувствовал несчастной и назначил божеством туалета 14 [Циндин гуцзинь…, 1934. Т. 492. С. 48 (96)].
Интересно, что вся эта развернутая картина существует исключительно в отсылках к «Записям, проясняющим диковинное», но сам текст, определяемый в отсылках как «танский», нигде не нали-

Божество отхожего места Цзы-гу из Собрания божеств Трех религий ( 三 教搜神大全 )
чествует. Неясно даже, существовал ли он вообще, поскольку не упоминается ни в одном имеющемся своде или каталоге. В то же время по ошибке его называют иногда «Записями, проясняющими диковинное и разъяснениями тайн совершенных людей» (體玄真人顯異錄
«Тисюань чжэньжэнь сянь и лу»), собранием даосских рассказов, составленных примерно в XIII в. учениками Ван Чу-и ( 王處一 , 1142–1217), где нет ни слова или намека на Цзы-гу 15
[Чжунхуа Дао Цзан, 2004. Т. 47. С. 107–112].
Вполне возможно, что здесь закралась такая же ошибка, как в отсылке к «Каталогу гор и морей» ( 山海經 «Шань хай цзин») при упоминании чудовища У Чжи-ци ( 無支祁 ), кочующая из одного классического свода в другой и часто без проверки цитируемая в современных изданиях 16. Это могло бы объяснить тот факт, что Цзы-гу, назначенная Нефритовым императором на должность божества отхожего места, и в самом «Саде диковин», и в различных танских бицзи упоминается лишь как одна в ряду многих других, отличающихся по своему облику и поведению Цэ-шэней.
В любом случае, вне зависимости от воплощения Цэ-шэня, мы можем наблюдать одну отмеченную выше весьма характерную деталь: божество отхожего места играет роль своеобразного медиатора между миром живых и миром мертвых, и отсюда и характерные черты его функционала, в частности, способность предсказывать будущее, и привязка к первому полнолунию года. Многогранность символики проводимого в это полнолуние Праздника Фонарей описана неоднократно и подробно; нас здесь, в первую очередь, интересует вера в открытие путей между миром живых и миром мертвых, освещаемых в эту ночь бесчисленными лампами 17. Не случаен и способ гадания: это так называемое «прямое гадание», т. е. призывание духа вселиться в оракула или какой-либо предмет в его руках 18, а не мантические действия отвлеченного характера. Таким образом, функционально мы видим здесь вполне близкий аналог поклонению духу бани в русских суевериях и связанных с банником рождественских гаданиях, также «прямых» и сопряженных с риском непосредственной встречи с духом [Власова, 1998. С. 29–36; Зеленин, 1991. С. 285, 404; Славянская мифология, 1995. С. 39–40].
Последующее бытование верований в Цэ-шэня только подкрепляет эту аналогию: дух отхожего места примерно с сунского времени становится преимущественно божеством женским, к поклонению которому мужчины не допускаются 19 [Цин цзя лу, 1999. С. 38]. Сам же дух также персонифицируется исключительно в виде женского божества, именуемого Цзы-гу (или сходно, в зависимости от диалектных вариантов, – Ци-гу ( 七姑 ), Сань-гу ( 三姑 ); в ряде местностей считают, что это имя соответствует семи или трем отдельным духам туалета соответственно). Именования также могут быть производными от местных названий уборной 20.
Таким образом, можно однозначно заключить, что привязка образа Цэ-шэня к личности ханьской Ци-фужэнь существенна для именования божества и некоторых других особенностей его позднего осмысления, но функционал этого духа связан исключительно с особой ролью, отводимой восприятию отхожего места в китайской традиционной культуре. Бытование сходных мифологических представлений прослеживается также и на примере простонародных верований других стран.
Список литературы Китайское божество Цэ-шэнь: генезис образа
- Власова М. Н. Русские суеверия: Энцикл. словарь. СПб.: Северо-Запад, 1998. 672 с.
- Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К. Д. Цивиной. М.: Наука, 1991. 511 с.
- Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год / Под ред. Р. Ш. Джарылгасиновой, М. В. Крюкова. М.: Наука, 1985. 264 с.
- Мифология: Иллюстрированный энциклопедический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. СПб.: Фонд «Ленинградская галерея», 1996. 844 с.
- Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Под ред. С. А. Токарева. М.: Сов. энцикл., 1982. Т. 1-2. 1392 с.
- Попов П. С. Китайский пантеон // Сб. музея по антропологии и этнографии. СПб.: Императорская академия наук, 1907. Вып. 6. 207 с.
- Славянская мифология. Энцикл. словарь. М.: Эллис Лак, 1995. 416 с.
- Сторожук А. Г. Образ обезьяны в литературе и культуре традиционного Китая // Россия - Китай: история и культура / Сб. ст. и докл. участников VIII Междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2015. С. 210-214.
- Asano Haruji. Offerings in Daoist Ritual // Daoist Identity: History, Lineage, Ritual / Eds. L. Kohn, H. Roth. Honolulu, 2002. Р. 274-294.
- Poceski M. Introducing Chinese Religions. London; New York: Routledge, 2009. 304 p.
- Werner E. T. C. Dictionary of Chinese Mythology (Shanghai, 1932). N. Y.: Julian Press, 1961. 627 p.
- Бань Гу. Хань шу. Эрши сы ши цюань и [班固. 漢書. 史記. 二十四史全譯. 上海: 漢語大詞典出版社]. История Хань. Полный перевод 24-х династийных историй. Шанхай: Ханьюй да цыдяньчубаньшэ, 2004. Т. 1-3. 2159 с. (на кит. яз.)
- Го Вэй. Чжунго нюйшэнь [過偉. 中國女神. 南寧: 廣西教育出版社 ]. Китайские женские божества. Наньнин: Гуанси цзяоюй чубаньшэ, 2000. 626 с. (на кит. яз.)
- И юань. Тань соу. Наньчао Сун Лю Цзин-шу сюань, Бэй Ци Ян Сун-цзе сюань [異苑. 談藪. 南朝宋劉敬叔選, 北齊楊松玠選. 北京: 中華書局]. Сад диковин. Собрание бесед. Собрали южносунский Лю Цзин-шу и северобэйский Ян Сун-цзе. Пекин: Чжунхуа шу цзюй, 1996. 110 с. (на кит. яз.)
- Ли Лулу. Чжунго цзе [李露露.中國節. 福州: 福建人民出版社 ]. Китайские праздники. Фучжоу: Фуцзянь жэньминь чубаньшэ, 2004. 255 с. (на кит. яз.)
- Ма Шу-тянь. Чжунго миньцзянь чжу шэнь [馬書田. 中國民間諸神. 北京: 團結出版社 ]. Полный свод святых народной религии Китая. Пекин: Туаньцзе чубаньшэ, 1997. 422 с. (на кит. яз.)
- Сыма Цянь. Шицзи. Эрши сы ши цюаньи [司馬遷. 史記. 二十四史全譯. 上海: 漢語大詞典出版社 ]. Исторические записки. Полный перевод 24-х династийных историй. Шанхай: Ханьюй дацыдянь чубаньшэ, 2004. Т. 1-2. 1569 с. (на кит. яз.)
- Сюань гуай лу. Тан Ню Сэн-жу бянь. Сюй сюань гуай лу. Тан Ли Фу-янь бянь. [玄怪錄. 唐牛僧儒編. 續玄怪錄. 唐李復言編. 北京: 中華書局]. Записи о таинственном и удивительном. Составил танский Ню Сэн-жу. Продолжение записей о таинственном и удивительном. Составил танский Ли Фу-янь. Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1982. 206 с. (на кит. яз.)
- Тайпин гуан цзи [太平廣記. 北京: 人民文學出版社 ]. Обширные записи годов Тайпин. Пекин: Жэньминьвэньсюэ чубаньшэ, 1959. Т. 1-5. 4106 с. (на кит. яз.)
- Цзинчу суйши цзи. Лян Цзун Линь сюань [荊楚歲時記. 梁宗懍選. 太原: 山西人民出版社 ]. Описания годового календаря празднеств и обрядов в Цзинчу. Составил лянский Цзун Линь. Тайюань: Шаньси жэньминь чубаньшэ, 1987. 172 с. (на кит. яз.)
- Циндин гуцзинь тушу цзичэн [欽定古今圖書集成. 上海: 中華書局 ]. Высочайше утвержденное собрание древних и новых книг. Шанхай: Чжунхуа шу цзюй, 1934. Т. 1-808. (на кит. яз.)
- Цинцзя Лу. Цин Гу Лу сюань. [清嘉錄. 清顧祿選. 南京: 江蘇古籍出版社 ]. Записи о чистом и прекрасном. Составил цинский Гу Лу. Нанкин: Цзянсу гуцзи чубаньшэ, 1999. 250 с. (на кит. яз.)
- Чжунхуа даоцзан. Чжан Цзи-юй чжу бянь [中華道藏. 張繼禹主編. 北京: 華夏出版社 ]. Китайская даосская сокровищница. Главный редактор Чжан Цзи-юй. Пекин: Хуася чубаньшэ, 2004. Т. 1-49. (на кит. яз.)