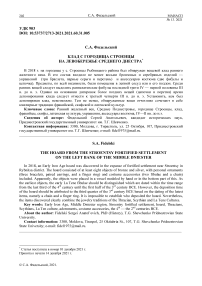Клад с городища Строенцы на левобережье Среднего Днестра
Автор: Фидельский С.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В 2018 г. на городище у с. Строенцы Рыбницкого района был обнаружен вещевой клад раннего железного века. В его состав входило не менее восьми бронзовых и серебряных изделий - украшений (три браслета, парные серьги и перстень) и аксессуаров костюма (две фибулы и цепочка). Предметы, по всей видимости, были помещены в лепной сосуд или в его поддон. Среди ранних вещей следует выделить раннелатенские фибулы последней трети IV - первой половины III в. до н. э. Однако на основании датировок более поздних вещей (цепочки и перстня) время депонирования клада следует отнести к третьей четверти III в. до н. э. Установить, кем был депонирован клад, невозможно. Тем не менее, обнаруженные вещи отчетливо сочетают в себе ювелирные традиции фракийской, скифской и латенской культур.
Ранний железный век, среднее поднестровье, клад, фракийцы, скифы, латенская культура, украшения, аксессуары костюма, i-v, ii вв. до н.э
Короткий адрес: https://sciup.org/14123566
IDR: 14123566 | УДК: 903
Текст научной статьи Клад с городища Строенцы на левобережье Среднего Днестра
МАИАСП № 13. 2021
Территория Среднего Поднестровья, а именно южная её часть, представляет собой регион, где в настоящее время сосредоточено значительное количество памятников археологии различных исторических эпох. Среди них особое место в регионе занимают древности раннего железного века. Представлены они, главным образом, поселенческими и погребальными памятниками гальштатской эпохи и гетской культуры. Большая их часть расположена на правом берегу Днестра, и только несколько памятников, в том числе городище Строенцы, находятся на левобережье. Здесь кроме указанного городища, хорошо известны укрепленные поселения Грушка, Рашков, Катериновка, Выхватинцы. Последнее в настоящее время является единственным археологически исследованным поселенческим памятником на левом берегу Среднего Днестра (Фидельский 2017).
Наряду с городищами были выявлены и неукрепленные поселения, а также отдельные погребения, расположенные преимущественно в окрестностях с. Рашков. В 2006 и 2008 гг. на одном из вновь открытых поселений у с. Рашков были проведены небольшие археологические раскопки (Фидельский 2020a: 163, 165). Однако большинство памятников раннего железного века на левобережье Среднего Днестра в археологическом плане остаются не изученными.
Среди памятников раннего железного века региона пристального внимания заслуживает городище у с. Строенцы Рыбницкого района (рис. 1). Впервые памятник был выявлен И.Г. Хынку в 1983 г., им же проведен осмотр и дано подробное его описание с указанием культурно-хронологического диапазона (Хынку 1987: 34—36). Позже в археологической литературе встречаются упоминания о городище только в контексте изучения гетских памятников Днестровско-Прутского междуречья (Никулицэ 1987: 87—88; Kaşuba, Haheu, Leviţki 2000; Niculiţă, Zanoci 2004: 112). В 2007 г. в ходе инвентаризации археологических памятников левобережья Днестра был проведен осмотр городища, уточнен ряд его деталей, в частности наличие каменной конструкции в основании вала, собрана керамика, представленная в основном фрагментами гетской лепной посуды (Фидельский 2017: 53—56, рис. 4).
В дальнейшем пристальное внимание к городищу было связано с находкой на его территории вещевого клада1. Информация о кладе поступила в 2018 г. от одного из жителя г. Тирасполь, которым были предоставлены несколько фотографий как самого клада, так и отдельных предметов из него. К сожалению, получить более подробную информацию о данном источнике не удалось. Для прояснения ситуации было принято решение выехать на городище. В результате осмотра памятника на участке внутреннего укрепления были обнаружены несколько современных грабительских шурфов разных размеров, максимальная глубина которых составляла 0,5 м. Стало очевидно, что клад был обнаружен грабителями в 2018 г. в ходе незаконных раскопок. Несмотря на указанные обстоятельства, данный археологический источник, вне всякого сомнения, заслуживает отдельной публикации. В качестве исходного материала использовались фотографии, на которых находки были изображены вместе с масштабной линейкой, что значительно упростило работу по определению их размеров. Кроме того, для каждого изделия известен вес.
МАИАСП № 13. 2021
Итак, как уже упоминалось, клад был обнаружен на участке центрального укрепления городища Строенцы и состоял из девяти различных предметов, помещенных в целый сосуд либо его поддон. В составе клада были предметы украшений и аксессуары костюма. К предметам украшений относятся три спиралевидных браслета, парные серьги и перстень, к аксессуарам костюма — две идентичные фибулы и одна цепочка (рис. 2).
В данной статье более подробно остановимся на описании предметов украшений, т.к. детальной характеристике аксессуарам костюма — бронзовым фибулам и бронзовой цепочке была посвящена отдельная публикация (Фидельский 2020b: 109—117).
Среди украшений выделяются три бронзовых (?) спиралевидных браслета. Два из них очень близки друг другу и скорее всего, относятся к одному типу. Третий отличается от предыдущих наличием змеиных головок на окончаниях.
Два спиралевидных браслета в 3,5 оборота изготовлены из довольно массивного, округлого в сечении стержня диаметром 0,5—0,6 см.2 Браслеты круглой формы. Диаметр одного браслета равен 5,5 см, максимальная ширина составила 4 см, вес 71,43 г (рис. 3). Окончания браслетов срезаны, имеют подквадратную форму. Браслеты орнаментированы. Орнамент располагался ближе к окончаниям браслетов и состоял из трех групп поперечных линий, между которыми были зафиксированы изображения в виде косого креста. В каждой из групп количество линий неодинаковое. Как правило, группы состояли из четырех поперечных полосок, и лишь в одном случае их было пять.
Браслет № 3 спиралевидной формы в 2,5 оборота изготовлен из довольно массивного, округлого в сечении стержня диаметром 0,5 см (рис. 4: А ). Браслет округлой формы, диаметром 6,8 см и максимальной шириной 3,8 см, вес 61,73 гр. Окончания браслета оформлены в виде змеиных головок, изображения которых достаточно реалистичны. Отчетливо обозначены глаза и пасть. Также следует отметить наличие гравированного орнамента на окончаниях браслета. Он украшал как саму поверхность браслета, так и змеиные головки. Орнамент на поверхности браслета состоял из двух групп, где были зафиксированы три и две поперечные линии. Украшения змеиных головок представляли собой косой крест, расположенный между глазами, и группу из поперечных и косых линий, размещенных на голове и туловище. Возможно, подобный орнамент представлял собой стилизацию змеиной чешуи.
Парные серьги , возможно, из белого металла изготовлены из гладкой и округлой в сечении проволоки диаметром от 0,1 до 0,4 см. Серьги имеют форму кольца диаметром 4,2 см (рис. 5: А ). Концы серег загнуты в виде петелек, с помощью которых они запирались. Общий вес серег составил 15,61 г, из чего следует, что масса одной серьги могла равняться 7,8 г.
Перстень , вероятнее всего, из белого металла изготовлен (вырезан) из тонкой металлической пластины с округлым щитком и плоскими дужками со слегка заходящими друг на друга концами (рис. 6: А ). Перстень округлой, слегка уплощенной формы диаметром 1,7—2 см. Диаметр щитка предположительно равен 2 см. На верхней поверхности щитка был зафиксирован пуансонный орнамент.
Как уже отмечалось, в составе клада наряду с предметами украшений были аксессуары костюма — две фибулы и цепочка.
МАИАСП № 13. 2021
Фибулы практически идентичные, различаются только по высоте и весу (рис. 7). Как нам представляется, предметы были изготовлены из бронзы. Они относятся к изделиям с гладкой дужкой (спинкой), арочной и слегка уплощенной формы. Максимальная длина фибулы составляет 4,3 см, высота варьируется от 1,2 до 1,5 см. Диаметр стержня дужки равен 0,4 см. Ножка плотно прилегает к спинке, имеет декор в виде бусины биконической формы диаметром 0,5 см, рельефных ободков, а также элемента похожего на трезубец. Пружина шестивитковая, по три витка с каждой стороны, общей шириной 1,5 см, тетива внешняя. Максимальный диаметр пружины равен 0,8 см. От пружины отходит игла, помещенная в небольшой приемник. Вес одной фибулы составляет 9,11 г, другой — 9,18 г.
Цепочка, судя по фотографии, изготовлена из бронзы (рис. 8). Её звенья представляют собой сомкнутые колечки овальной и круглой формы, изготовленные из плоского в сечении прута. О длине цепочки, а также о размерах звеньев судить невозможно. По всей видимости, общая длина изделия была не менее 50 см. Достоверно известно, что вес цепочки составляет 12,18 г.
Таким образом, предметы из клада с городища Строенцы разнообразны, в связи с чем представляют значительный научный интерес. Необходимо отметить, что этим вещам известны прямые аналогии как к западу, так и к востоку от Днестра.
По В.Г. Петренко, браслеты из клада городища Строенцы относятся к ручным стержневым браслетам. Тем не менее, учитывая совокупность форм, размеров и орнамента, отнести эти изделия к одному из выделенных исследователем типов затруднительно. Наличие змеиных головок на окончаниях браслета, а также гравированного орнамента позволяет относить один из экземпляров к изделиям 2 типа (Петренко 1978: 52—53). В то же время этот же браслет на основании спиралевидной формы, наличия змеиных головок на окончаниях позволяет отнести можно отнести к изделиям 9 типа по В.Г. Петренко (Петренко 1978: 55). Но и в этом случае наши браслеты отличаются более массивными формами и достаточно реалистичными изображениями змеиных головок. Два других браслета с обрезанными окончаниями имеют сходства с изделиями 4 типа, а именно пятого и шестого вариантов, куда входят браслеты с гравированным орнаментом из поперечных линий и косых крестов (Петренко 1978: 53—54). Здесь также существенной разницей является спиралевидная форма строенецких браслетов.
Несмотря на некоторые типологические отличия, прямые аналогии браслетам из с. Строенцы со змеиными головками происходят из кладов, обнаруженных на гетских городищах Матеуцы и Большая Сахарна на правобережье Среднего Днестра (Băţ, Zanoci, Cojocari 2019). Четыре подобных браслета были найдены при исследовании скифского могильника III—II вв. до н.э. у с. Глиное на Нижнем Днестре (Тельнов, Четвериков, Синика 2016: 866, рис. 437: 6 ; Синика, Тельнов 2018: 254, рис. 6: 5—6 ). Кроме того, несколько спиралевидных браслетов со змеиными головками выявлены в ходе раскопок скифских захоронений на Нижнем Дунае (Тельнов, Синика 2012: 70—72, рис. 1: 15—16 ). Подобные браслеты хорошо известны в памятниках раннего железного века Северного Причерноморья (Колотухин 1996: 47—48, рис. 54: 5,8 ; Труфанов 2001: 71—72; Венцова 2013: 121).
Западный ареал распространения браслетов со стилизованными змеиными головками охватывает памятники фракийского гальштата, расположенных в Южной Словакии, Трансильвании, Восточной Венгрии и Болгарии, которые хорошо были известны, начиная с VI в. до н.э. (Dušek 1966: 101—102; Рябцева 1999: 229).
Однако наиболее близкие аналогии браслетам с реалистичным изображением змеиных головок происходят из памятников, относящихся к северо-фракийской культурноисторической общности. Три таких браслета, два из которых спиралевидной формы, были
МАИАСП № 13. 2021
обнаружены в ходе раскопок близ с. Телица (жудец Тулча) на территории юго-восточной Румынии. Здесь был исследован курган, содержащий шесть погребений с трупосожжениями. Один браслет находился в захоронении № 3, два других — в центральном погребении № 6. Окончания всех браслетов оформлены в виде змеиных головок с достаточно реалистичными изображениями. По совокупности всего материала, главным образом, античного импорта погребения в кургане относились к одному времени и были датированы концом IV — началом III в. до н.э. (Gavrilă, Cantacuzino 1962: 375—376, 379, fig. 5: 5,16—17 ).
Не углубляясь в трактовку зооморфного образа змеи, отметим, что он был достаточно широко популярен среди оседлого и кочевого населения раннего железного века Северного Причерноморья. Особенно данный образ был распространен у фракийцев. Отметим, что с наибольшей долей вероятности производство браслетов со змеиными головками напрямую связано с фракийской ювелирной традицией.
Женскими украшениями из клада городища Строенцы являются парные серьги. По классификации В.Г. Петренко, анализируемые изделия сопоставимы с первым, самым распространенным, вариантом серег 31 типа (Петренко 1978: 37, табл. 26: 1—6 ). Не удивительно, что серьги указанного варианта часто встречаются на огромной территории от Нижнего Дуная до Среднего и Нижнего Дона. Большинство из них происходят из скифских погребений Северного Причерноморья и памятников Правобережной лесостепи (Петренко 1978: 37). Наиболее близкие аналогии находкам из Строенец обнаружены в курганах у с. Оситняжка (правобережье Днепра) и у с. Мастюгино (Среднее Подонье), где проволочные серьги с загнутыми в виде петелек концами были изготовлены из золота (Бранденбург 1908: 138; Либеров 1965: 22, рис. 36: 30 ; Петренко 1978: рис. 26: 1—2 ). Указанные погребения были ограблены в древности.
Пластинчатый перстень из клада с городища Строенцы, по классификации В.Г. Петренко, принадлежит варианту «в» типа 7 отдела II (Петренко 1978: 61). Пластинчатые перстни с пуансонным орнаментом на щитке, в отличие от варианта «а» того же типа, не получают широкого распространения. Основная масса подобных перстней происходит из памятников скифской археологической культуры Северного Причерноморья. Подобное украшение было найдено в погребении 2 кургана 7 у с. Булгаково в правобережном Побужье (Петренко 1978: 76, рис. 51: 38 ). Комплекс датирован концом первой — началом второй четверти IV в. до н.э. (Полин 2014: 289). Ближайшей аналогией перстню из Строенец является украшение из погребения 3 кургана 107 скифского могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Комплекс датируется третьей четвертью III в. до н.э. (Тельнов, Четвериков, Синика 2016: 883, 963, 965, рис. 439: 17 ).
Найденные в составе клада аксессуары костюма (обе фибулы и цепочка) имеют латенское происхождение. Фибулы типологически связаны с горизонтом Духцов-Мюнзинген, а по размеру, форме и стилю оформления ножки (наличие бусины) — тяготеют к духцовскому варианту. По хронологической схеме восточного Латена горизонт Духцов-Мюнзинген включает в себя две ступени (В1 и В2 а ), временной диапазон которых соответствует 390/380—280/260 гг. до н.э. (Щукин 1994: 48—49). Как показали исследования, фибулы духцовского типа характерны для ступени В2 а , которая в общей сложности была датирована последней третью IV — первой половиной III в. до н.э. (330— 280 гг. до н.э.) Необходимо отметить, что в это время происходят некоторые изменения в деталях конструкций духцовских фибул, о чем наглядно свидетельствуют небольшие размеры и хорошо выраженные арковидные спинки экземпляров с городища Строенцы. Подобные фибулы, вероятнее всего, доживают до конца ступени В2 а и являются свидетельством завершения стиля Духцов—Мюнзинген на восточной окраине кельтского
МАИАСП № 13. 2021
мира около 280 гг. до н.э., тогда как на западнокельтских территориях он продолжал существовать (Щукин 1994: 44; Еременко 1997: 17).
Несмотря на внушительную коллекцию латенских вещей, обнаруженных восточнее Карпат от Сирета до Днепра, бронзовая цепочка с городища Строенцы является пока единственной подобной находкой в указанном регионе. При этом они хорошо известны, собственно, на памятниках латенской культуры, ближайшие из которых расположены в Закарпатской Украине (Бiдзiля 1964: 123—126, табл. VII: 3 ). Считается, что такие изделия использовались в качестве поясных ремней — боевых портупей у мужчин и украшений у женщин. Кроме того, в ходе археологических раскопок памятника найдена небольшая коллекция литейных форм, с помощью которых изготавливались звенья для бронзовых цепочек, что подтверждает их местное производство (Бiдзiля 1964: 108—111, табл. III; 1971: 62—65, рис. 22). При их описании было указано, что диаметры колец варьировались от 1,3 до 2,3 см, что не соответствует размерам звеньев бронзовой цепочки с городища Строенцы. Среди бронзовых цепочек из Галиш-Ловачки встречаются экземпляры, которые по форме, величине (диаметр до 0,8 см) и технике изготовления очень схожи с нашей находкой. В.И. Бидзиля предположил, что они использовались в составе коромысловых весов для подвешивания чашек, аналогии которым хорошо известны на кельтских памятниках Чехии (Бiдзiля 1964: 111).
Однако находка бронзовой цепочки в составе клада вместе с различными предметами украшений свидетельствует об ее использовании совместно с фибулами в качестве аксессуара костюма. При этом цепочка могла служить и нагрудным украшением, как фибулы, и украшением пояса. Показательной находкой является бронзовая среднелатенская фибула с прикрепленной к ней короткой цепочкой из могильника Корчеватое в Днепровском Правобережье (Самойловський 1947: 105, рис. 7).
Если говорить о датировке бронзовых цепочек в целом, то в хронологической схеме восточного латена начало их появления исследователи относят к ступени В2 b , возможно даже к ее заключительному этапу, т.е. к 260—230 гг. до н.э. Более широкое распространение они получают на следующих ступенях, где массово продолжают использоваться вплоть до фазы С1 b включительно, временной промежуток которой охватывает последнюю четверть III — начало II в. до н.э. (Щукин 1994: 49—51; Еременко, Щукин 1998: 68, 72—77, рис. 6).
Фибулы раннелатенской конструкции, бесспорно, являются более ранними изделиями в составе клада. Бронзовые среднелатенские цепочки получили широкое распространение только во второй половине III в. до н.э.
В завершении настоящей работы подведём некоторые итоги. Возможно, владельцем клада являлось лицо с довольно высоким социальным статусом. На это указывает тот факт, что некоторые изделия с большой долей вероятности были изготовлены из серебра.
Кроме того, следует обратить внимание, что клад был закопан на территории внутреннего (центрального) укрепления городища. В настоящее время можно предполагать, что эта территория городища отличалось от остальной части, значительно большей по площади и располагавшейся между валами. Именно здесь, в отсутствие открытого поселения, могла проживать основная часть населения, заниматься хозяйственной и ремесленной деятельностью. Однако, вероятнее всего, эта территория использовалась в качестве убежища. В свою очередь, внутреннее укрепление, которое было хорошо защищено (вал до 2 м высотой и ров шириной 7 м и глубиной более 1 м, располагавшийся с внешней стороны), могло представлять собой сакральное место с определенным количеством культовых сооружений. С другой стороны, данное пространство предназначалось, в том числе, для проживания местной знати. О существовании на этом участке каких-либо
МАИАСП № 13. 2021
строительных объектов (храмовых комплексов или жилых сооружений) указывает обнаруженный в одном из грабительских шурфов фрагмент каменной кладки. Спрятать и спасти таким образом дорогие предметы можно было только в наиболее значимом и защищенном месте. В этом случае идеальной территорией для сокрытия клада являлось внутреннее укрепление городища Строенцы.
Время бытования найденных вещей, а также возраст наиболее поздних из них (латенской цепочки и перстня) указывает, что депонирование клада ограничивается третьей четвертью III в. до н.э.
Вне зависимости от того, носителем какой культурной традиции и по какой причине эти ценные вещи были сокрыты в составе клада, отметим, что обнаруженный на городище Строенцы клад, безо всякого преувеличения, представляет собой уникальное сочетание фракийской, скифской и латенской традиций в производстве украшений.
Список литературы Клад с городища Строенцы на левобережье Среднего Днестра
- Бранденбург Н.Е. 1908. Журнал раскопок Н.Е. Бранденбурга (1888—1902 гг.). Санкт-Петербург:
- Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. Бiдзiля В.I. 1964. Поселення Галiш-Ловачка (за матерiалами розкопок Т. Легоцького). Археологiя 17, 92—143.
- Венцова М.И. 2013. Украшения в грунтовых некрополях Боспора VI—II вв. до н.э. ДАЗ 17, 115—131.
- Еременко В.Е. 1997. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. Опыт реконструкции этнополитических процессов III—I вв. до н.э. в Центральной и Восточной Европе. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Еременко В.Е., Щукин М.Б. 1998. К вопросу о хронологии восточного Латена и позднего предримского времени. АСГЭ 33, 61—89.
- Колотухин В.А. 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы-начале железного века (этнокультурные процессы). Киев: Южногородские ведомости.
- Либеров П.Д. 1965. Памятники скифского времени на Среднем Дону. Москва: Наука (САИ Д1-31).
- Никулицэ И.Т. 1987. Северные фракийцы в VI—I вв. до н.э. Кишинев: Штиинца.
- Петренко В.Г. 1978. Украшения Скифии VII—III вв. до н.э. Москва: Наука (САИ Д4-5).
- Полин С.В. 2014. Скифский Золотобалковский курганный могильник V—IV вв. до н.э. на Херсонщине. Киев: Издатель Олег Филюк.
- Рябцева С.С. 1999. Змеи и драконы. О продолжении одной античной традиции в ювелирном деле эпохи средневековья. Stratum plus 3, 228—240.
- Самойловський I. 1947. Корчоватський могильник. Археологiя I, 101—109.
- Синика В.С., Тельнов Н.П. 2018. Скифский курган 116 первой половины III в. до н.э. у с. Глиное. В:
- Синика В.С., Рабинович Р.А. (ред.). Древности. Исследования. Проблемы. Сборник статей в честь 70-летия Н.П. Тельнова. Кишинев; Тирасполь: Stratum plus, 223—266.
- Тельнов Н., Синика В. 2012. Фракийские влияния на материальную культуру и погребальный обряд скифов III—II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра. Revista Arheologică. Serie nouă VIII (1—2), 69—83.
- Тельнов Н.П., Четвериков И.А., Синика В.С. 2016. Скифский могильник III—II вв. до н.э. у с. Глиное. Тирасполь: Stratum plus.
- Труфанов А.А. 2001. К вопросу о хронологии браслетов с зооморфными окончаниями (по материалам крымских могильников позднескифского времени). В: Гущина И.И., Журавлев Д.В. (ред.). Поздние скифы Крыма. Москва: ГИМ, 71—77 (Труды ГИМ 118).
- Фидельский С. 2017. Городища железного века на левобережье Среднего Днестра. In: Zanoci A., Sîrbu V., Băţ M. (eds.). Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean. Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna, Saharna 14—17 iulie 2016. Chisinău; Brăila: Istros, 47—64.
- Фидельский С. 2020a. Новые материалы железного века с левобережья Среднего Днестра. Tyragetia XIV [XXIX] 1, 163—176.
- Фидельский С. 2020b. Латенские аксессуары костюма с левобережья Среднего Днестра. In: Zanoci А., Băţ М. (eds.). Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului. Chisinău: Bons Offices, 105—118.
- Хынку И.Г. 1987. Древнейшие памятники родного края (городища северной Молдавии). Кишинев: Штиинца.
- Щукин М.Б. 1994. На рубеже Эр. Санкт-Петербург: Фарн.
- Băţ M., Zanoci A., Cojocari E. 2019. Tezaurul de piese de podoabă de la Mateuţi: noi date şi interpretări.
- In: Zanoci А., Băţ М. (ed.). Contribuţii la preistoria şi istoria antică a spaţiului carpato-danubianopontic.
- In honorem professoris Ion Niculiţă natalia sua octogesima celebrantis. Chişinău: Bons Offices, 297—322.
- Dušek M. 1966. Thrakisches gräberfeld der hallstattzeit in Chotin. Bratislava: Slovenská Akadémia Vied (Archeologica Slovaca Fontes. T. VI).
- Gavrilă S., Cantacuzino G. 1962. Cercetările arheologice de la Teliţa (com. Poşta, r. Tulcea, reg. Dobrogea). MCA 8, 373—382.
- Kaşuba M., Haheu V., Leviţki O. 2000. Vestigii traco-getice pe Nistrul Mijlociu. Bucureşti: Vavila Edinf SRL.
- Niculiţă I., Zanoci A. 2004. Sistemul defensiv la traco-geţii din regiunea Nistrului Mijlociu. In: Niculiţă I., Zanoci A., Băţ M. (ed.). Tracians and circumpontics wold. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chisinău-Vadul lui Vodă, 6—11 september 2004. Pt. II. Chisinău: Reclama, 104—129.
- Niculiţă I., Zanoci A., Băţ M. 2016. Evoluţia habitatului din microzona Saharna în epoca fierului. Chişinău: Bons Offices (Biblioteca “Tyragetia” XXVII).