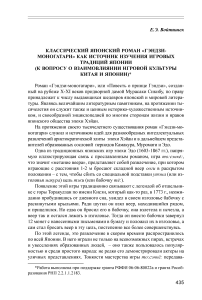Классический японский роман «Гэндзи-моногатари» как источник изучения игровых традиций Японии (к вопросу о взаимовлиянии игровой культуры Китая и Японии)
Автор: Войтишек Е.Э.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521380
IDR: 14521380
Текст статьи Классический японский роман «Гэндзи-моногатари» как источник изучения игровых традиций Японии (к вопросу о взаимовлиянии игровой культуры Китая и Японии)
Роман «Гэндзи-моногатари», или «Повесть о принце Гэндзи», созданный на рубеже X-XI веков придворной дамой Мурасаки Сикибу, по праву принадлежит к числу выдающихся шедевров японской и мировой литературы. Являясь величайшим литературным памятником, на протяжении тысячелетия он служит также и ценным историко-художественным источником, и своеобразной энциклопедией по многим сторонам жизни и нравов японского общества эпохи Хэйан.
На протяжении своего тысячелетнего существования роман «Гэндзи-мо-ногатари» служил и источником идей для разноообразных интеллектуальных развлечений аристократической элиты эпохи Хэйан и в дальнейшем представителей образованных сословий периодов Камакура, Муромати и Эдо.
Одна из традиционных японских игр эпохи Эдо (1603-1867 гг.), напрямую иллюстрирующая связь с прославленным романом, игра то:сэнкё:, что значит «метание веера», представляет собой развлечение, при котором играющие с расстояния 1-2 м бросают складной веер ооги в раскрытом положении – с тем, чтобы сбить со специальной подставки утэна (или изголовья макура ) цель тэки (или бабочку тё: ).
Появление этой игры традиционно связывают с легендой об отшельнике с горы Торакудзан по имени Кисэн, который как-то раз, в 1773 г., неожиданно пробудившись от дневного сна, увидел в своем изголовье бабочку с раскинутыми крыльями. Ради шутки он взял веер, находившийся рядом, и прицелился. Но едва он бросил его в бабочку, она взлетела и исчезла, а веер так и остался лежать в изголовье. Тогда он вместо бабочки завернул 12 монет с нанесенными письменами в бумагу и положил их в изголовье, а сам стал бросать веер в эту цель, постепенно все более совершенствуясь.
По этой легенде, это развлечение в скором времени распространилось по всей Японии. В него играли не только на всевозможных пирах, встречах и увеселениях образованных людей, – оно также пользовалось популярностью и среди простого народа: не редко его демонстрировали актеры на уличных представлениях. Тонкости мастерства игры то:сэнкё: передава- лись не только опытным путем или изустно, но и посредством печатных изданий. Так, в конце XVIII в. в Японии было издано несколько трудов об этой игре, посвященных описанию различных способов бросания веера, особых приемов организации ритуала и методики подсчета очков.
Примечательно, что, как и многие другие явления культурно-исторического характера, истоки этой игры так же можно проследить в культуре Древнего Китая. Известно, что в Китае оно существовало еще с эпохи Чжоу (XII-III вв. до н.э.), являясь развлечением аристократии и людей высокого социального статуса [Энциклопедия игр, с.184]. В «Лицзи» («Книга ритуалов»), одном из основных произведений конфуцианского канона, есть упоминание об игре тоуху (яп. то:ко ), что переводится как «метание в кувшин».
Согласно правилам, хозяин и гость во время пира поочередно метали стрелы в установленный на определенном расстоянии кувшин. Попавший большее число раз считался победителем; он наливал вино, которое должен был выпить побежденный. «По свидетельству «Сицзин цзацзи», в I в. до н.э. правила игры были усовершенствованы: если раньше важно было просто попасть в кувшин, то теперь ценилось умение так метнуть стрелу, чтобы она выпала из сосуда и снова оказалась в руках у игрока» [Крюков, Малявин, с.152-153]. Как указывают источники VI в., настоящим мастерам удавалось метать одну и ту же стрелу по 40 и более раз. Более того, некоторые мастера, усложнив правила, достигли особого умения метания стрел вслепую – в кувшин, находящийся за ширмой [Там же, с.153].
В Японию это развлечение проникло в VII в. в эпоху Нара, называясь тогда цубоути или цубонагэ , что означало именно «метание стрел в кувшин». В энциклопедии «Вамё:руйдзюсё:», написанной в 4-й год периода Сё:хэй (934 г.), есть следующая запись: « тоуху – это древний ритуал, в котором используются кувшин высотой 1 сяку (30,3 см) и 1 сун (3, 03 см) и стрелы, длина которых также составляет 1 сяку и 1 сун» [Энциплопедия игр, с.184].
Игра тоуху упоминается в знаменитых литературных произведениях эпохи Хэйан (794-1185 гг.), а именно в романе Мурасаки Сикибу «Повесть о принце Гэндзи» и эссе Сэй Сёнагон «Записки у изголовья». Позднее, в труде 1372 г. «Новая выборка развлечений», в главе «Развлечения аристократии под новый год» также была представлена подробным образом игра тоуху .
Надо сказать, что это развлечение, заимствованное японцами из Китая и в дальнейшем развитое хэйанской аристократией, оставалось популярным и в средневековой Японии.
Так, один из основоположников классического жанра хайку Ёса Бусон (1716-83) посвятил трехстишие (5-7-5 слогов) этой игре. Как-то раз, любуясь хризантемами в уединенном горном домике в гостях у почтенного старца, он сложил хайку :
Идэ сараба Тоуко маирасэн Кику-но хана .
Не сыграть ли нам в «метание в кувшин»? Цветы хризантемы.
Свидетельством непреходящей ценности этой древней игры можно считать тот факт, что стрелы и кувшин, изготовленные в разное время в Китае и Японии, бережно хранятся в настоящее время в разных хранилищах Киото и Нара .
Надо заметить, в настоящее время это старинное китайское развлечение переживает в странах дальневосточного региона определенный период возрождения популярности. В разных городах Японии и Кореи при городских музеях устраиваются выставки, организуются клубы любителей старинных развлечений.
Что касается японцев, то они, заимствовав в древности идею этой игры, со временем не только сохранили нетронутым оригинальный вариант этой игры, но и разработали свой. Содержание этой игры существенно видоизменилось, соединившись с традиционной национальной эстетикой: в японском варианте игры вместо стрел и кувшина, имеющих в китайской культуре устойчивый эротический подтекст, неоднократный отраженный в классической художественной литературе, фигурируют веер, подставка и цель-бабочка.
Надо сказать, что основными центрами распространения этого развлечения долго оставались два города – Киото и Эдо (Токио), знаменитые своими достижениями в области традиционной духовной культуры. Поэтому, видимо, не случайно впоследствии с целью «облагородить» исключительно азартный характер этого развлечения была разработана целая система правил и предписаний, связанная с прославленными литературными произведениями – с «Повестью о принце Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»), созданной на рубеже X-XI вв., и со стихотворной антологией XIII в. «Сто стихотворений ста поэтов» («Хякунин иссю»), составленной крупнейшим литератором Фудзивара-но Тэйка.
Учитывая особую знаковую роль романа «Гэндзи-моногатари» в японской культуре, следует прежде всего обратиться к анализу взаимосвязи игры именно с этим произведением. Каждая композиция, образованная упавшим веером и сбитой им с подставки целью-бабочкой, соотносится с названием одной из 54 глав романа. Более того, в зависимости от таких факторов, как сложность и редкость, эстетическая ценность той или иной комбинации, каждая композиция веера, цели-бабочки и самой подставки оценивается разным количеством баллов.
Для иллюстрации взаимосвязи комбинаций веера, цели-бабочки и подставки с литературным произведением обратимся к сопоставлению композиций с избранными главами романа Мурасаки Сикибу «Гэндзи-монога-тари» и приведем несколько примеров*.
Глава 11 Ханатиру-сато «Сад, где опадают цветы» (1 очко)
Название этой главы романа одновременно является и обозначением ранга придворной фрейлины из задних покоев, и именем дамы нёго Рэй-кэйдэн, с которой встречается Гэндзи. Мурасаки Сикибу описывает ситуацию, когда Гэндзи, приметив нёго , тем не менее старается привлечь к себе внимание и остальных дам. Обратив внимание на нёго , он все же отмечает, что из этого круга не она «всех милее».
Имя этой самой обычной женщины (Ханатиру-сато), встреча с которой происходит у принца в летнюю пору, когда отцветают и осыпаются вишневые цветы [Боронина, 1986, с.201], подчеркивает и заурядность композиции, где веер, «бабочка» и подставка в беспорядке разбросаны по игровому полю – словно отцветшие и опавшие цветы и листья. Комбинация настолько проста и обычна, что кое-где правилами игры вообще не предусмотрено какое-либо начисление очков.
Глава 19 Усугумо «Тающее облако» (2 очка)
В игре то:сэнкё: в этом положении веер стоит и как бы опирается на подставку, а «бабочка» оказывается зажатой между веером и подставкой таким образом, что фактически видна только ее нижняя круглая часть. При этом «бабочка» символизирует круглую луну, а веер – облако, ее скрывающее. В этой литературной аллюзии присутствует намек на ситуацию из главы романа, когда госпожа Акаси, возлюбленная Гэндзи, вынуждена была расстаться со своей малолетней дочерью, отдав ее на воспитание во дворец, и довольствоваться редкими сведениями о ее жизни.
Итак, вышеприведенные примеры из текста романа «Гэндзи-моногата-ри» демонстрируют тесную связь всего повествования и его сюжетообразующих пружин с образами, вызываемыми ассоциациями, возникающими при трактовке разнообразных композиций в игре «метание веера». Очевидно, что изощренный ум создателей этого интеллектуального развлечения был воспитан на традиционных и непреходящих духовных ценностях японской культуры, среди которых важнейшее место занимает такой признанный шедевр мировой литературы, как «Повесть о принце Гэндзи».
Т.о., роман «Гэндзи-моногатари» в истории культуры и в плане развития этнографического японоведения представляет собой большой интерес как источник интеллектуального соперничества японской элиты на протяжении многих веков и требует дальнейшего изучения.