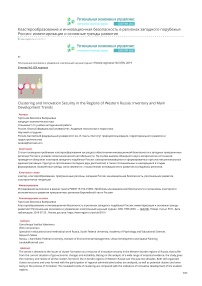Кластерообразование и инновационная безопасность в регионах западного порубежья России: инвентаризация и основные тренды развития
Автор: Горочная Василиса Валерьевна
Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region
Статья в выпуске: 3 (59), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам кластерообразования как ресурса обеспечения инновационной безопасности в западных приграничных регионах России в условиях геоэкономической нестабильности. На основе анализа обширного круга эмпирических источников проводится обзор всех кластеров западного порубежья России: самоорганизовавшихся и сформированных при участии региональных административных структур на протяжении последних двух десятилетий, а также потенциальных и находящихся в стадии формирования. Выявленные тренды сопоставляются с показателями инновационного развития исследуемых регионов.
Кластер, кластерообразование, приграничные регионы, западная Россия, инновационная безопасность, региональное развитие, кластерогенные тенденции
Короткий адрес: https://sciup.org/143169015
IDR: 143169015
Текст научной статьи Кластерообразование и инновационная безопасность в регионах западного порубежья России: инвентаризация и основные тренды развития
Региональное развитие современной России претерпевает существенные изменения в условиях геоэкономических изменений в системе «Россия-Запад», первоочередным следствием чего является смена внешних и внутренних условий функционирования западных приграничных регионов. В силу своего географического положения активно включённые в систему трансграничных связей и территориального разделения труда, многие из них испытывают не только утрату прежних поставщиков и рынков сбыта регионального продукта, но также потребность в импотрозамещении в сфере высокотехнологичного производства, разрыв прежних научнопроизводственных и торговых контактов. Соответственно, актуальным вопросом сохранения поступательного вектора развития является инновационная безопасность западных приграничных регионов как контактно-барьерной зоны национальной экономики.
Теоретическая концептуализация категории «западное порубежье России» в экономико-географическом ключе в работах А.Г. Дружинина [5], [6] требует дальнейшего анализа основных трендов и проблем, специфических для западных приграничных регионов (и усиливающихся в условиях перманентной геоэкономической неустойчивости), что обусловило большой интерес к соответствующей проблематике со стороны научного сообщества за последние годы. Однако, наряду с выявлением специфических проблемных областей и системы рисков приграничных регионов, особого внимания заслуживают те самоорганизующиеся процессы, которые составляют основу региональной резистентности по отношению к внешним и внутренним угрозам. В современных динамичных условиях инновационная безопасность выступает не столько в качестве самого состояния внешней защищённости и внутренней стабильности, сколько в качестве способности региональной экономики своевременно реагировать на вызовы и угрозы циклу воспроизводства инноваций исходя из целей и приоритетов регионального развития.
Будучи по своей природе самоорганизующимся процессом, происходящим в качестве ответа региональной экономической системы на сдвиг начальных условий с образованием нового структурного уровня [3], образование экономических кластеров является одним из механизмов достижения стабильности воспроизводства инноваций в условиях внутренних и внешних угроз. Одним из эмпирически фиксируемых трендов развития регионов западного порубежья России в текущих геоэкономических условиях стало самоорганизующееся перераспределение торговых, финансовых и информационных потоков в пользу развития межрегиональных горизонтальных связей [4]. Другим, сосредоточенным преимущественно во внутрирегиональном пространстве с меньшей долей межрегиональных связей, стал проявивший себя за последние 4 года тренд экономического (и преимущественно инновационного кластерообразования), требующий изучения и оценки.
Насчитывающее на данный момент в России уже около десятилетия (а в отдельных регионах — около двух десятилетий) кластерообразование является предметом широкого исследовательского дискурса. Наряду со стремлением к системной оценке эффекта от проведения целенаправленной кластерной политики (по данным из официального перечня кластеров, зарегистрированных на Карте кластеров России) [7], предпринимаются и попытки фиксировать вектор причинно-следственной взаимосвязи между интенсивностью регионального развития и кластерообразованием (образование кластеров может быть представлено не столько причиной, сколько следствием повышенного уровня развития отдельных регионов и секторов, мультиплицирующих повышенные темпы своего развития) [30]. Но несмотря на неоднозначность кластерогенных тенденций в России, по данным Ассоциации кластеров и технопарков России, «производительность труда в среднем по промышленным кластерам почти на 30% превышает среднее значение по обрабатывающей промышленности России, и составляет 4,2 млн рублей в расчете на 1 человека» [14]. Вместе с данным преимуществом кластерный механизм важен за счёт наличия кооперативных механизмов покрытия рисков (что особенно важно в инновационной деятельности) и конкуретного стимула к инновационному росту. В этом свете нуждается в эмпирическом обследовании и теоретической концептуализации инновационный вектор кластерообразования в западных приграничных регионах России.
Цель и результаты исследования
Целью настоящего исследования состоит в том, чтобы проследить инновационный вектор в русле общих тенденций экономической кластеризации в западных приграничных регионах России в качестве ответа региональной экономической системы на вызовы инновационной безопасности. Соответственно, проведём «инвентаризацию» и обзор всех основных образовавшихся, находящихся в стадии формирования и перспективных экономических кластеров в регионах западного порубежья России, выявив основные периоды возникновения кластерогенных импульсов, отраслевую структуру и географию их распространения, степень инновационной направленности кооперации предприятий и их конкурентный потенциал на основании широкого круга эмпирических источников (официальных ресурсов кластеров и крупных кластерообразующих предприятий, региональных центров кластерного развития и других аналогичных структур, исследовательских аналитических материалов и информационных периодических изданий, освещающих вопросы образования кластеров в российских регионах, а также данных экспертного опроса).
С учётом российской специфики кластерообразования (состоящей в сочетании самоорганизующихся трендов и инициативы со стороны административных структур) в настоящее исследование включены данные как по официально зарегистрированным на федеральном и региональном уровне кластерам, так и по эмпирически фиксируемым сконцентрированным территориально, конкурирующим и находящимся в кооперативных взаимоотношениях, но организационно не оформленным группам предприятий.
Если на данный момент лишь 29 промышленных кластеров, образованных по всей России включены в федеральный реестр, то сведения Ассоциации кластеров и технопарков позволяют говорить о порядка 140 кластерах, локализованных в 26 регионах России, насчитывающих в своём составе порядка 470 промышленных предприятий (в том числе 76,8% — из числа малого и среднего бизнеса) [14]. В рамках настоящего исследования в западных приграничных регионах России было выявлено в общей сложности 74 образовавшихся и 26 потенциальных кластера. Представим далее их обзор по регионам с учётом времени образования, источников основного импульса к кластеризации, а также инновационной составляющей.
Экономика Краснодарского края на протяжении длительного времени развивалась в большей мере по холдинговой модели, нежели по кластерной, что обусловлено целым рядом причин: недостаточной экономической и организационной заинтересованностью во взаимодействии между предприятиями, относительно высокими ценами на внутрирегиональных рынках (данная причина препятствует кластерообразованию в сфере агробизнеса), в ряде случаев также недостаточной критической массой предприятий в силу высоких рыночных, институциональных барьеров входа в отрасль, технологических факторов эксплуатации промышленных объектов (в частности, именно по данной группе причин в регионе с большим количеством морских портов, в том числе федерального значения, не сложился портово-логистический кластер). Первым из подвергнувшихся кластеризации стал туристический сектор как один из профильных для региона и обладающий достаточной критической массой предприятий. При наличии предпосылок и протокластерных образований фактором сдвига начальных условий послужил активный рост отрасли в 2013-2015 гг. в связи с модернизацией основных фондов для проведения олимпиады 2014 г., что повлекло за собой вторичный мультипликационный эффект. К 2015-2016 гг. «откристаллизовались» три кластера различной профильной специализации и территориальной локализации: «Абрау-Утриш», а также «морской» и «горный» кластеры большого Сочи. В настоящее время они продолжают рассматриваться исследователями и администрацией региона и в качестве самостоятельных, и в качестве единого туристско-рекреационного кластера Краснодарского края [11].
Начиная с 2016-2017 гг. на фоне активизации кластерообразования в других регионах России (и в частности — соседствующей Ростовской области) на уровне администрации Краснодарского края были осознаны возможности формирования кластеров в секторах, требующих импортозамещения, равно как и экономические выгоды от их образования (повышение производительности труда, создание новых продуктов и обретение регионом дополнительных профилей специализации, конкурентных преимуществ, общее повышение инвестиционной привлекательности). На базе основных отраслей профильной специализации при разработке Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период, наряду с туристическим, было обозначено формирование: кластера экологизированного агропромышленного комплекса с глубокой умной переработкой, торгово-транспортнологистического кластера («Черноморский экспортный ХАБ»), кластера умной промышленности, а также кластера социальных и креативных индустрий.
На данный момент посыл к формированию при поддержке региональной администрации получил первый из обозначенных проектов, получивший наименование Промышленный кластер Краснодарского края «Кубань» [16]. Он объединяет различные виды промышленного производства, сгруппированных вокруг сельскохозяйственного продукта (глубокая переработка сырья, биотехнологии, пищевая промышленность, сельскохозмашиностроение и пр.). Экономически сдвиг начальных условий, способствовавший выгоде кластеризации, связан с потребностью в импортозамещении мальтодекстрина [14], что открывает какперспективы на внутреннем рынке, так и на экспортные возможности. В качестве стимулирующей региональной политики применяются налоговые льготы (освобождение от уплаты имущественного налога до 2020 г.).
Данный опыт свидетельствует о распространении в регионе опыта кластерообразования, однако следует учитывать, что изначальный импульс исходил не от самих региональных производителей, а от администрации. Во многом в связи с данным фактором спектр продукции кластера весьма широк и не всегда обнаруживает прямую технологическую связь, поэтому уже в ближайшей перспективе потребуется субкластеризация со специализацией в более узких секторах (уже намечен проект по созданию отдельного кластера в сфере сельскохозяйственного машиновтроения) и образование дополнительной организационной массы. Также следует заметить, что при кластеризации промышленности, обслуживающей АПК, сам агробизнес кластерообразованию не подвергается. Отчасти импульс к кластеризации даёт приход в Краснодарский край предприятий из других регионов (как при перерегистрации, так и при передислоцирования производства) в результате смены тенденций и качестве деловой среды, повышению инвестиционной и деловой привлекательности края по сравнению с соседствующими регионами.
На фоне данной качественной характеристики кластеризации в регионе количественное измерение его инновационного развития показывает существенный рывок после 2014-2015 г. Если количество организаций, выполняющих исследования и разработки находилось на уровне 50-60, то после 2014 г. превысило 100. Число ежегодно разрабатываемых новых технологий, испытывавшее колебания около 10, в 2015 г. достигло 35. Количество используемых технологий, насчитывавшее порядка 2 – 2,5 тыс., превысило в 2016 г. 5 тыс. [20]. Тем не менее, после 2015-2016 г. происходит пусть и не столь масштабное, но снижение показателей инновационной активности. Это говорит о том, что активный рост связан в большей мере с развитием региона в ходе реализации федеральных проектов по улучшению инфраструктуры и рекреационных возможностей в ходе подготовки к Олимпиаде 2014 г., что дало свой мультипликационный эффект для экономики региона в целом и его инновационной составляющей. Кластерогенные тенденции последних лет вызваны скорее потребностью в сохранении темпов инновационного воспроизводства, чем результатом предшествовавшего развития.
Неоднозначные тенденции претерпевает кластерная динамика в Республике Крым и г. Севастополе : в период 2014-2016 гг. от администрации региона исходила инициатива по формированию нескольких туристических кластеров различной локализации, нуждающихся в повышении конкурентоспособности (а не обладающие таковой на данный момент), что обнаруживает принципиально иное понимание кластеров, сложившееся в системе регионального управления — они воспринимаются в большей мере как инструмент поддержки слабых территорий, нежели как опора на уже сформированные конкурентные преимущества. Как и в ряде других регионов, в 2018 г. в Республике Крым был образован Центр кластерного развития, который сосредоточил свои усилия, наряду с поддержкой туристических проектов, на формировании АгроБиоТех кластера, а также судостроительного и креативного кластеров [28]. В качестве основных заявленных целей центра фигурируют лоббирование интересов бизнеса на региональном уровне, синергетический эффект оптимизации издержек, а также получение государственной поддержки. Кластеры находятся на стадии проектирования, как и культурный кластер г. Севастополя, поддерживаемый в качестве одного из федеральных проектов. Противоречивая ситуация сложилась вокруг судостроительного-судоремонтного севастопольского кластера, имевшего большой потенциал к развитию, однако «свёрнутого» в результате укрупнения предприятий, смены собственников, снижения конкуренции и лага адаптации к новым условиям.
Статистика инноваций в Республике Крым и г. Севастополе, в целом, повторяет картину Краснодарского края: произошёл заметный рост к 2015 г. (численность организаций, осуществляющих научную деятельность, возросла, соответственно, с 15 до 23 и с 5 до 12), с дальнейшим медленным, но заметным спадом. Доля инновационной продукции в ВРП возросла в Республике Крым к 2015 г. от 0,7% до 1,2%, в г. Севастополь к 2016 г. от 0,5% до 12,8%. Однако при этом доля инновационно активных организаций после 2014 г падает: в Республике Крым с 11,5% до 3,5% к 2017 г., в г. Севастополе — с 4,8% до 3,2% [20]. Данный тренд может свидетельствовать о реальной угрозе инновационной безопасности: инновационное производство осуществляется не за счёт самоорганизационных экономически эффективных и самовоспроизводимых механизмов, а в большей мере за счёт государственных программ.
Ростовская область является одним из ареалов раннего кластерообразования в России. На сегодняшний день регион насчитывает уже четыре поколения кластеров. Первое из них сформировалось в базовой для области сфере агропроизводства ещё в начале 1990-х гг. как на основе местных природных ресурсов и производственного потенциала, так и на основе взаимной диверсификации со сферой морских грузоперевозок, что составило важное конкурентное преимущество как в экспортно-контактном, так и в организационнотехнологическом и логистическом плане. В качестве кластера-стартапа был спроектирован и образован «Евродон» (производящий мясо индейки), что позволило группе предприятий осуществить быстрый вход в отрасль с учётом высоких конкурентных барьеров, а также преодолеть кризис, возникший в связи с ответственностью крупных предприятий, составляющих ядро кластера, за неисполнение обязательств «кластерной периферии». В настоящее время результатом укрупнения кластера должно стать упрочение экспортной направленности, наряду с занятыми позициями на российском рынке. Все кластеры первого поколения возникли в Ростовской области на основе рыночной самоорганизации предприятий без ведущей роли государства.
Второе поколение кластеров, относящееся к 2007-2011 гг., в большей мере было ведомо импульсом, исходящим от региональной администрации и направленным на поддержку базовых производств региона в сфере машиностроения. В сфере лёгкой промышленности намечалось образование централизованных и децентрализованных рыночных кластеров, для которых толчком к интеграции явилось внешнее конкурентное давление, что повлекло за собой опыт формирования регионального бренда (например, в сферах обувной и текстильной промышленности). Однако временный характер действия рыночных трендов, равно как и государственной заинтересованности, превышающей интеграционный потенциал самих предприятий и давление со стороны инотерриториального капитала, не способствовали эффективной кластеризации, в результате данные кластеры скорее остались потенциальными.
Третье поколение кластеров, сформировавшееся на рубеже 2014-2015 гг. и активно проявившее себя уже в 2016-2017 гг., было непосредственно индуцировано потребностью в импортозамещении, в первую очередь — в сфере инновационного машиностроения (приборостроения, рыбопоискового эхолокационного оборудования и пр.), а также биохимических технологий и производства продовольственной продукции. Заявили о себе сразу 6 кластеров: «Южное созвездие», «Морские системы», «Амилко», кластер станкостроения, кластер молочных продуктов, IT-кластер, возникшие с участием крупных образовательных и научных организаций и имеющие своим центром как Ростов-на-Дону, так и другие города ростовской агломерации (Таганрог, Азов). Возникнув при встречной инициативе бизнес-сообщества и региональной администрации, все кластеры были официально образованы на организационном уровне, сформировали программно-стратегическую документацию, координирующие структуры (институты развития для каждого кластера), а в ряде случаев приступили к разработке собственных стандартов. Последовавшее непосредственно за третьим четвёртое поколение кластеров приходится на 2017-2018 гг.: после многократных попыток был аналогичным образом учреждён кластер в сфере атомного машиностроения «Атоммаш», винодельческий кластер «Долина Дона», вновь заявили о себе и сельхозмашиностроительный и дорожно-транспортный кластеры. Таким образом, в регионе на протяжении нескольких десятилетий кластеризации последовательно подвергались всё новые сектора профильного производства.
В настоящее время многие из образованных кластеров переживают распад и кризис, уход базовых предприятий, составлявших кластерное ядро. Данная тенденция вызвана не столько внутрикластерными процессами, сколько общим изменением деловой обстановки и инвестиционного климата в регионе в результате ухудшения взаимодействия бизнес-среды с местными элитами, что заключает в себе немалую опасность для инновационной безопасности региона: потеря потенциала, набранного в ходе кластеризации 2014-2016 гг., компенсируемая для региона ростом сырьевого экспорта. Тот же тренд подтверждается динамикой статистики инноваций: доля инновационных предприятий достигла кульминации (9,9%) в 2015, после чего продолжается спад (8,2% в 2017 г.). Количество разрабатываемых технологий, вросшее за период 2012-2016 с 12 до 25, в 2017 г. снизилось до 15, а объём инновационных товаров и услуг, достигнув в 2016 г. 14,5%, снизился в 2017 до 10,6% [20].
В Воронежской области потребности и возможности кластерооразования были осознаны в 2010-2011 гг., в результате чего последовательный курс на поддержку инициатив по консолидации усилий региональных производителей был активно взят администрацией региона в 2013-2014 гг. На этот период приходится разработка последовательной Концепции кластерного развития [13], содержащей, наряду с дефинициями и атрибутивными признаками экономического кластера (в качестве таковых обозначены: региональная отраслевая специализация; конкурентоспособность, проявленная на уровне экспорто-ориентированности;
инновационность; независимость участников кластера и наличие внутренней конкуренции; достаточная критическая масса по численности участников; отраслевая интеграция, наличие внутренней инфраструктуры и рынка труда) ряд заявленных направлений и инструментов регулирования региональных кластеров с учётом многоуровневости, а также необходимости поиска, селекции и совершенствования самих способов поддержки. Результатом последовательной проработки концептуального видения перспектив кластерного развития региона, типологизации горизонтально и вертикально интегрированных кластерных структур, схематизации их инфраструктурного обеспечения (в том числе в качестве таковой региональная администрация рассматривает существующую базу индустриальных парков и технополисов), создания специализированной информационной среды — стало образование в 2013-2014 гг. девяти региональных кластеров: авиационного; производителей нефтегазового и химического оборудования; строительных материалов и технологий; IT-кластера; электромеханического оборудования («Воронежская электромеханика»); мебельного; радиоэлектронного; насосостроительного; транспортно-логистического [25]. Базовым потенциалом формирования кластеров стала относительно развитая конкурентная среда региональных производителей, в первую очередь — в наукоёмких отраслях промышленности, имеющих длительную историю в регионе (в том числе — за счёт конверсии технологий из военной промышленности, что особенно ощутимо в радиоэлектронном кластере, работающего как для гражданской сферы, так и для ВПК, а также выпускающего продукцию двойного назначения). Потребность в кластеризации была осознана в регионе за счёт сочетания относительно высокого научно-технического и инновационного потенциала с одной стороны — и недоинвестированности большинства отраслей с другой, что потребовало консолидации усилий местных производителей [13].
Создание воронежских кластеров не получило активной встречной инициативы со стороны федеральной администрации и не все предпринятые меры на региональном и местном уровне показали свою эффективность (в частности, практически не используется созданная единая информационная среда, не вполне сформировалась внутрикластерная инфраструктура и система кадрового обеспечения). Однако практически все из образованных кластеров (за исключением насосостроительного) продолжают своё существование. Наиболее успешно и интенсивно среди них развивается кластер нефтехимического оборудования, показали свою перспективность с точки зрения интеграционных тенденций мебельный и авиационный. Как и в других регионах с развитыми кластерами, наиболее системно и осознанно на концептуальном и организационном уровне происходит кластерное взаимодействие в сфере IT-технологий (несмотря на довольно широкий спектр продукции и услуг, не способствующий прямой заинтересованности в кластеризации).
На современном этапе (2018-2019 гг.) вслед за промышленностью кластерогенез начал активно проникать в сельскохозяйственную сферу (в качестве наиболее чётко обозначившихся можно отметить кластер мясного скотоводства, а также кластер глубокой переработки сельскохозяйственной продукции). Однако при этом специфика агрокластеров требует изучения и разработки специализированных мер поддержки, а также соответствующего регулирования, что лишь частично было осуществлено в регионе.
Наукоёмкость большинства кластеризуемых секторов имеет потенциал для дальнейшего инновационного вектора развития. Наряду с продукцией машиностроения образованными кластерами заявлен курс на повышение доли производства технологий (как для собственного использования, так и для рыночной реализации), а также широкого спектра услуг (дизайнерских, консультационных, обслуживания реализованного оборудования и пр.). Однако при этом в качестве общего недостатка следует отметить практическое отсутствие заявленной экспортной ориентации как на уровне Концепции и стратегической документации, так и на уровне программы развития каждого из кластеров. При развитой системе международного сотрудничества (рыночного, инфраструктурного, научнотехнологического) у отдельных предприятий (например, у крупных предприятий авиастроительного кластера), кластерные образования региона в целом не настроены на поиск возможностей трансграничного развития. Большинство кластеров концентрированы исключительно в г. Воронеже и не способствуют развитию других территорий области, хотя в числе заявленных целей их создания — увеличение количества рабочих мест и инфраструктурной обеспеченности региона в целом.
На фоне заявленных целей и периодически актуализируемых форматов содействия инновационной кластеризации статистика инновационного развития региона отражает противоречивые тенденции: большой нестабильностью характеризуется количество ежегодно разрабатываемых технологий и объёмы инновационного производства (в отдельные годы обнаруживающие двухкратный рост и спад), медленно, но поступательно возрастает доля инновационно активных организаций (от 10,3% в 2014 к 11,7% в 2017) [20].
В Белгородской области , как и в Воронежской, создан Центр кластерного развития, в настоящее время содействующий развитию двух кластеров: биофармацевтического (создан в 2014 г.) и кластера информационных технологий (2016 г.). Оба кластера ориентированы на импортозамещение, повышение конкурентного потенциала региональных производителей как на российском рынке, так и на зарубежном, а также продвижение и популяризацию отраслевого регионального продукта на местном рынке. В качестве мер поддержки IT-кластера, наряду с общими организационными и информационными, применяются льготное налогообложение (1% с суммы доходов от предпринимательской деятельности), пятидесятипроцентное льготное использование арендных площадей технопарка, а также программа приобретения жилья по доступным ценам для сотрудников кластера, что призвано содействовать в решении проблемы кадрового обеспечения [24]. Одним из инструментов развития стала интеграция с системой образования начиная со школьного уровня (создание профильных классов и программ) [1].
Горнометаллургический, агропромышленный и строительный комплексы также рассматриваются региональной администрацией в качестве кластеров либо протокластерных образований в силу их длительной истории и существенной роли в региональном производстве, однако в данных секторах кластерогенные механизмы не были запущены в полной мере. Несмотря на формирование внутренних инфраструктурных объектов, развитие данных секторов пошло по холдинговому пути (в том числе — в результате недостаточной «критической массы» в горнометаллургическом секторе), либо недостаточен внутренний конкурентный потенциал. Однако формирование кластеров в данных отраслях (и в особенности — в агропромышленном комплексе) способствовало бы интенсификации пространственного развития области. Наряду с данными отраслями периодически в качестве кластеризуемого поля рассматривается совокупность организаций социокультурной, научно-образовательной и информационно-аналитической направленности, проявляющих инициативу к более тесному взаимодействию. Однако фактически они составляют не кластер (в силу недостатка внутренней конкуренции), а формирующуюся региональную инновационную систему.
Кластерообразование в регионе ощутимо сказалось на повышении показателей инновационной активности. Доля инновационной продукции в ВРП поступательно растёт: если в 2014 г. она составляла 4,4%, то к 2017 достигла 11,6%. Количество ежегодно разрабатываемых передовых технологий за тот же период возросло с 10 до 37 (в 2016 г. оно достигло 51), а доля инновационно активных организаций с 11,5% до 14,8% [20].
В Курской области на данный момент относительно сформированным является электротехнический кластер, возникший и обозначивший стратегию собственного развития в конце 2017 г. на основе порядка 10 конкуретноспособных региональных предприятий и двух организаций высшего образования, выполняющих функцию кадрового обеспечения [12]. На сегодняшний день кластер, наряду с программной документацией, имеет структуру, осуществляющую координацию и стратегическое планирование. Он возник на основе относительно развитого регионального инновационного потенциала, ориентирован на широкий спектр высокотехнологичной продукции (как в сфере вычислительной техники, высоковольтной и низковольтной автоматики, так и в сфере оборудования атомной, нефтяной и химической промышленности), предназначенной для российского рынка (предполагается, главным образом, межрегиональный экспорт). Среди инструментов кластерной поддержки, главным образом, информационноконсультационная, правовая и организационная поддержка. Участники кластера, наряду с производственно-технологической кооперацией, стремятся к выстраиванию единой рыночной стратегии и совместному позиционированию регионального бренда.
В качестве потенциальных кластеров региона в 2011-2015 гг. прогнозировались электроэнергетический, кластер добычи полезных ископаемых, кластер производства стройматериалов, а также кластеры в сфере лёгкой промышленности, что связано с традиционно высокой ролью данных отраслей в региональном производстве, а также потребностью и наметившимися тенденциями в их модернизации. Тем не менее, инициальный импульс к кластерообразованию пришёлся именно на сферу электротехники в результате актуилизировавшейся потребности в импотрозамещении, а также ставке на развитии обрабатывающих производств. На фоне данной тенденции происходит поступательный рост доли инновационной продукции (от 6,5% в 2014 г. к 8,4% в 2017), однако при этом удельный вес инновационно активных предприятий за тот же период сократился вдвое (с 10 до 5%) [20], происходит постепенное «сжатие» организационного пространства.
В Брянской области , как и в Курской, институционально оформленным является единственный кластер — радиоэлектронный (обозначенный на Карте кластеров России как «Кластер цифровой экономики Брянской области» со специализацией на информационнокоммуникационных технологиях), объединивший порядка десяти производителей соответствующего оборудования и услуг по его эксплуатации. Наряду с использованием импортируемых технологий в кластере осуществляется разработка собственных инноваций. Кластер был организационно учреждён в 2018 г. и находится на начальной стадии развития. С 2009 г. в регионе предпринимаются попытки кластерной консолидации усилий организаций туристического сектора с целью повышения интенсивности использования местного потенциала (соответствующая установка была заявлена в стратегической и программной документации региона в 2013-2014 гг.), результатом чего в 2016 г. стала инициатива по созданию туристического кластера «Хрустальный город» [19].
Также со стороны исследовательского сообщества, бизнеса и администрации в регионе рассматриваются перспективы создания кластеров в сферах: железнодорожного машиностроения, агробизнеса (в первую очередь — производства картофеля) и биотехнологий [2]. Главным образом, данные векторы развития намечены в силу сочетания транспортно-логистических преимуществ, природного и человеческого ресурсного потенциала, наличия опорных вузов технического профиля, стремления к повышению инновационной составляющей производства; дополнительным и немаловажным фактором является потребность в сохранении населения, производства и развитии периферийных территорий, испытывающих кризис.
Региональная статистика показывает стабильный рост количества разрабатываемых технологий, начавшийся с 2014 г. (от 7 до 16 в 2017 г.), однако снижается доля инновационно активных организаций (соответственно с 8,2% до 6,2%), а объёмы инновационной продукции после активного роста в 2014-2016 (с 6,5% до 18,8%) в 2017 г. снизились до 7,3% [20], что свидетельствует о нестабильности и наличии угроз снижения инновационного потенциала.
В Смоленской области действует Центр кластерного развития [9], содействующий на данный момент IT-кластеру, кластеру композитных материалов, льняному и туристическому кластерам в плане организационной и консультационной помощи, созданных в 2016-2017 гг. В качестве целей формирования кластеров и деятельности их координирующих структур заявлено не только расширение масштабов производства, но также повышение инновационной составляющей и внедрение новых технологий, групповое налаживание коммуникации с региональной администрацией, формирование кадрового резерва, представительство региональных интересов на федеральных мероприятиях отраслевой направленности и формирование нового имиджа региона в российском информационном пространстве, популяризация кластерного продукта, его продвижение на внутреннем рынке. Ориентированность на международные рынки присутствует у IT-кластера [9].
Наряду с системой субподрядов IT-кластер планирует реализацию внутренней системы грантов для развития стартапов и новых бизнес-инициатив. Наиболее тесная взаимосвязь науки и производства реализуется в кластере композитных материалов, действующем на базе индустриального парка «Сафоново». Кластер производства льна находится на стадии первичного формирования, формируется на базе компаний, развивавшихся по холдинговой модели и расширяющих свою деятельность при поддержке Министерства промышленной торговле с целью возродить отрасль в России, повысив масштабы производства для внутреннего и внешнего рынка [9]. В процессе обсуждения находятся вопросы инновационного развития производства льна. Туристический кластер, созданный в 2017 г. и включивший в себя 48 участников, направлен на повышение мультипликативного эффекта региональной туристической деятельности, создание дополнительных рабочих мест и развития рекреационного бренда региона [22]. Как и в Брянской области, статистические показатели фиксируют нестабильную динамику объёмов инновационного производства и доли инновационно активных предприятий на фоне роста разрабатываемых технологий (с 9 до 12 за период 2014-2017) [20].
В Псковской области инициатива по созданию кластеров исходит в большей мере от региональной администрации, чем от представителей бизнес-среды, однако при этом и региональные предприятия обнаружили относительно сформировавшиеся кооперационные цепочки. Данный момент имеет и положительные стороны — последовательное проектирование кластерной структуры, профессиональный кластерный менеджмент и привлечение дополнительных институциональных ресурсов поддержки. Региональной администрацией достигнуто соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков. В качестве перспективной площадки для базирования промышленных кластеров будет использован технопарк «Моглино» [10]. Субсидии из федерального бюджета были получены первым из отобранных региональной администрацией кластерных проектов — электротехническим кластером (образовавшийся в 2016 г. на базе великолукского завода электротехнического оборудования). Данный кластер обнаруживает относительную сформированность производственных кооперационных связей, а также наибольший потенциал импортозамещения. Наряду с оптимизированной кластерной структурой, осуществляется расчёт участия каждого из предприятий кластера в формировании добавленной стоимости [17], рассматриваются возможности реализации новых кооперационных схем.
Проводится анализ эффективности сотрудничества по всем реализуемым проектам с точки зрения соотношения затрат на реализацию проекта и его финансовой результативности [17]. Собственно производственные цели кластерной интеграции дополняются таким приоритетом как взаимный обмен компетенции в производстве и управлении. Однако на текущей стадии формирования особенностью является относительно слабая внутрикластерная конкуренция, что требует расширения деятельности, привлечения и образования дополнительной организационной массы.
Туристический кластер «Псковский» формируется на основе региональных рекреационных ресурсов и имеет большой потенциал к развитию трансграничных связей как с прилегающими регионами России (в первую очередь — Ленинградской и Новгородской областями), так и со странами Балтийского региона. Формирующийся кластер ещё до своего официального образования в 2016 г. получал выгоду от реализации целевых программ по городскому благоустройству и реконструкции памятников истории и культуры, был включён в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» [21]. Интеграция усилий предприятий (преимущественно малых) сыграла положительную роль в условиях нестабильной динамики рынка туристических услуг в регионе [21].
Статистические показатели региона маркируют нестабильность динамики инновационно активных предприятий (в пределах 7-9%) и разрабатываемых новых технологий (1-3 ежегодно) при общем росте объёмов инновационного производства (от 0,7 до 2,1% за 20142017) [20].
Калининградская область , как и Ростовская, стала одним из наиболее ранних ареалов кластерообразования в России как на уровне самоорганизация бизнеса, так и на уровне формирования мер региональной кластерной политики (установленные требования соответствия кластерной форме организации предприятий, субсидирование, организационная и информационная помощь предприятиям) [5]. В силу эксклавного положения региона и недостаточной внутренней организационной массы в большинстве секторов происходило образование трансграничных кластеров. Однако выгоды трансграничного партнёрства, способствовавшие внешним импульсам к кластерообразованию на протяжении 2006-2013 гг., сменились разрывом экономических связей в условиях геоэкономической турбулентности начиная с 2014-2016 гг. К 2014 г. в регионе идентифицировались 7 кластеров (как имеющих, так и не имеющих официальной регистрации, представительства и координирующих структур): янтарный, мебельный, судостроительный, производства продуктов питания, автомобильный, туристический и IT-кластер (последние два имеют внутреннее подразделение на подкластеры) [5]. Однако в связи с утратой зарубежных партнёров, дополнявших необходимую «критическую массу», практически был «сведён на нет» кластерный потенциал мебельной и автомобильной отраслей, существенно сократился он и в сфере продовольственной продукции. «Сворачивание» кластерного пространства произошло и в янтарной отрасли за счёт монополизации сектора, сосредоточившегося всецело вокруг Калининградского янтарного комбината. Отчасти продолжается кластеризация IT-сектора (как в г. Калининграде, так и в г. Гусев), туристического и судостроительного секторов, что способствует развитию центра и периферийных территорий области [5]. В регионе действует «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», разрабатывающий инструменты поддержки бизнес-инициатив и кластерного менеджмента.
В целом, количество разрабатываемых в регионе технологий после 2014 г. резко снизилось (1-2), однако при этом количество инновационно активных организаций возросло (от 2,4% до 4,3% за 2014-2017), нестабильной и низкой остаётся доля инновационной продукции (0,2%-0,4%) [20].
В Ленинградской области при поддержке Центра развития промышленности ЛО в 2018 году были образованы 4 промышленных кластера: лесопромышленный, судостроительный, пищевой промышленности и биотехнологий, а также кластер нефтегазохимии и строительных материалов. Основным толчком к кластерообразованию послужила потребность в повышении конкурентоспособности регионального производства, что планируется осуществить за счёт развития кооперационных связей и сокращения издержек при совместном использовании объектов логистической инфраструктуры, интеграции ресурсов для модернизации производственных мощностей. Итоговой целью является повышение региональных возможностей импортозамещения. В настоящее время в кластерах образованы внутренние координационные структуры, продолжается процесс документального оформления и регламентирования взаимодействия участников. Наряду с выводом на рынок новых продуктов планируется осуществление юридической, организационной и консультационной поддержки участникам кластера, организация профессиональной подготовки и стажировок, мониторинг научнотехнического потенциала участников, совместное проведение маркетинговых исследований, а также совместное привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов [15]. Кластер продуктов питания и биотехнологий в качестве одной из целей развития делает акцент на повышении инновационности производства. В качестве инструментов поддержки кластеров используются субсидирование (по различным отраслевым программам), снижение налоговой ставки, предоставление займов под сниженный процент, региональные льготы для инвесторов, консультативная, юридическая и организационная помощь [8].
При недостатке внутренней «критической массы» для развития конкуренции ряд предприятий рассматривается в качестве потенциальных участников кластеров. Судостроительный кластер является межрегиональным. Наряду с нефтегазохимическим кластером, он имеет потенциал и заданный вектор трансграничного развития, взаимодействия со странами ЕС. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий также является межрегиональным с г. Санкт-Петербургом. Все кластеры региона в большей мере ориентированы на стабильный и растущий внутренний спрос, в меньшей степени — на приграничные страны ЕС.
Статистика инноваций области фиксирует снизившуюся и нестабильную инновационную активность организаций после 2014 г. (от 8,5 до 10%), равно как и долю инновационного производства (около 2-2,3% после 5% в 2014 г.) при росте количества разрабатываемых технологий (11-18 за 2014-2017 гг.) [20].
Санкт-Петербург создал развитую среду и инфраструктуру информационной и организационной поддержки кластеров. Центр кластерного развития Санкт-Петербурга на данный момент курирует 12 кластеров: кластер информационных технологий и радиоэлектроники, кластер медицинской и фармацевтической промышленности, композитный кластер, кластер транспортного машиностроения, кластер станкоинструментальной промышленности, кластер «Автопром Северо-Запад», кластер «Инноград науки и технологий», промышленный кластер робототехнических эко-систем, кластер производителей средств электронно-вычислительной техники, а также ряд объединений предприятий, направленных на обслуживание и улучшение городской среды и экологии Санкт-Петербурга: кластер развития инноваций в энергетике и промышленности, кластер водоснабжения и водоотведения, кластер чистых технологий для городской среды . Дополнительной организационной структурой координационного плана является Совет кластеров Санкт-Петербурга, созданный в 2019 г. и несущий коллегиальные совещательные и экспертно-консультативные функции [29].
Несмотря на то, что институциональное оформление кластерная среда города получила лишь в 2018-2019 гг., Санкт-Петербург можно считать одним из ареалов раннего кластерообразования. В целом, выделяются три основных волны кластерообразования: в 2010-2012 гг. кластеризации были подвергнуты сферы машино- и станкостроения, информационных технологий, медицины и фармацевтики, в 2014-2015 гг. была осознана возможность кластерообразования в сфере городского хозяйства и экологии, в 2016-2017 гг. последовало образование кластеров во вновь образованных инновационных производствах. Главным фактором раннего и активного кластерогенеза в регионе послужили два фактора: развитый внутренний спрос, растущий синхронно социально-демографическому и экономическому росту города федерального значения, а также активная бизнес-среда, обладающая относительно высокой деловой культурой и осознающая выгоды от взаимного сотрудничества и совместного поиска возможностей лоббирования своих интересов за счёт взаимодействия с региональной и федеральной администрацией.
Сдвиг 2014 г. негативно сказался на доле инновационной продукции (7,3% в 2015 г. после 12%), однако за последние годы происходит медленное восстановление (до 9,1% в 2017). Однако при этом количество разрабатываемых технологий стабильно снижается ещё с 2012 г. (от 259 к 130 в 2017), как и инновационая активность организаций (от 19% до 16% соответственно) [20].
В Республике Карелия Центр кластерного развития был образован по инициативе региональной администрации в 2018 г. с целью стимулирования и организационного содействия кластерообразованию. В качестве модели для деятельности Центра был использован опыт, накопленный в Калининградской области как ареале раннего кластерообрзования России [27]. На данный момент Центром поддерживаются два кластера: машиностроительный и туристический («Южная Карелия»), находящиеся на стадии начального становления и проектирования. Однако потенциал к интеграции туристической сферы региона был осознан ещё в 2012-2013 гг., как и потребность в обновлении основных фондов, модернизации производства, повышении потенциала рекреационных ресурсов, привлечении дополнительного спроса и создания новых рабочих мест, а также повышении качества кадрового потенциала [23]. На данные цели планируется выделение средств регионального бюджета, кластерный же формат их распределения призван оптимизировать структуру расходов и повысить результативность вложений, привлекая встречный инвестиционный поток от региональных предприятий. Наряду с упомянутыми кластерами в регионе рассматривается возможность создания кластера объединяющего порядка 900 предприятий творческой и развлекательной индустрии [18], в том числе тесно взаимодействующей с туризмом, а также лесопромышленного кластера.
В целом, в регионе происходил поступательный рост количества разрабатываемых технологий с 2011 по 2016 гг. (от 1 до 11), в настоящее время стабилизировавшийся. Однако объёмы инновационного производства по сравнению с 2010 г. (1,3%) упали в 2014 г. (0,2%) и несущественно выросли в 2016 г. (0,3%). Снижается и доля инновационно активных организаций (от 10,9% в 2012 г. до 5,9 в 2017).
В Мурманской области картина кластерообразования схожа с Республикой Карелия, однако деятельность Центра кластерного развития была начала в регионе ещё в 2014 г. В качестве центрального поля кластеризации рассматривается туристическая отрасль (туристический кластер подвержен субкластеризации на 10 относительно самостоятельных территориальных центров туризма, кластеризовавшиеся в 2014-2015 гг.), а также образовавшийся на основе лесохозяйственного комплекса и перерабатывающих отраслей лёгкой промышленности «Кластер северного дизайна» (также подразделённый на субкластеры: рекламы и маркетинга, издательского дела, цифровых технологий, дизайна и архитектуры, текстиля и одежды, народных ремёсел) и производственно-пищевой кластер (созданы в 2018 г.) [26]. Тенденция к субкластеризации связана с весьма широким полем определения кластерного продукта, что, в свою очередь, проистекает из потребности набрать «критическую массу» предприятий. Кластерообразование в регионе ведомо инициативой администрации в большей мере, чем импульсами деловой среды. Центр кластерного развития, как и в большинстве регионов, наряду с организационно-консалтинговыми функциями, инициирует инвестиционные проекты и совместный поиск возможностей государственной поддержки.
Важно учитывать, что в регионе на протяжении около десятилетия не разрабатываются передовые технологии. Существенный спад инновационной активности организаций начался с 2013 г. (с 13,5% до 7,2% в 2016), будучи скомпенсированным лишь небольшим ростом в 2017 (до 8,2%). Продолжает снижаться объём инновационного производства (от 3,6 до 1,3 за 2014-2017). В связи с этим образование кластеров в северо-западных регионах видится скорее в качестве попытки компенсировать и исправить сложившуюся тенденцию.
Заключение
Проведённый обзор региональных трендов позволяет фиксировать целый ряд важных тенденций. Во временн о м отношении чётко прослеживаются несколько волн генерации новых кластеров, в особенности участившиеся после 2014 г. и зарождающихся с интервалом примерно в 2 — 2,5 года. В пространственном же отношении происходит их постепенное распространение на соседствующие регионы от центров возникновения. В качестве таковых первично выступили для северо-западного приграничного ареала Санкт-Петербург, а для юго-западного — Ростов-на-Дону. Третьим центром (не столько генератором, сколько ретранслятором внешних импульсов) для «волн кластеризации» могла стать Калининградская область, чему воспрепятствовали эксклавное положение региона и негативный гео-экономический сдвиг, приведший к «сворачиванию» кластерного пространства в регионе. Однако он же стал стимулом к кластеризации отраслей инновационного производства в других регионах (в большей мере данной тенденции оказались подвержены наукоёмкое машиностроение, биотехнологии, IT-сектор, отчасти также туристическая отрасль).
Как было установлено по результатам исследования, в большинстве регионов кластерные процессы возникли при сочетании самоорганизующихся импульсов бизнес-среды и стимулирующей региональной политики в качестве средства резистентности по отношению к негативным трендам динамики воспроизводства инноваций. Однако при этом лишь в отдельных случаях они способствовали росту, в большинстве же случаев позволили лишь сохранить воспроизводство либо отчасти компенсировать его сокращение, что говорит о сохранении реальных угроз инновационной безопасности.
http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/tvorcheskie_industrii/razvitieundefinedtvorcheskogoundefinedklasteraundefinedresp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
All about entrepreneurship. Electronic resource: http://www.opora-credit.ru/news/business/detail.php?ID=43559
3 (61), pp. 35-44.
http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/tvorcheskie_industrii/razvitieundefinedtitvorcheskogoundefinedklasteraundefinedres
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
Analiticheskaya zapiska]// Territorial body of state statistics in the Pskov region. 2018. Electronic resource: http://gkk.pskov.ru/sites/default/files/analiticheskaya_zapiska_turizm.pdf
Список литературы Кластерообразование и инновационная безопасность в регионах западного порубежья России: инвентаризация и основные тренды развития
- Белгородский IT-кластер. Официальный сайт. http://belitcluster.ru/cluster/about-the-cluster/
- В Брянской области будут сформированы инновационные кластеры // Опора-Кредит. Всё о предпринимательстве. Электронный ресурс: http://www.opora-credit.ru/news/business/detail.php?ID=43559
- Горочная В.В. Самоорганизация кластерных структур как инструмент модернизации экономики Ростовской области // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2013. № 5 (177). С. 81-86.
- Горочная В.В. Факторы, форматы и векторы формирования «горизонтальных» межрегиональных связей в западном порубежье России// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. - №4 (56). Номер статьи: 5616. Дата публикации: 2018-11-23. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5616
- Дружинин А.Г., Клемешев А.П., Федоров Г.М., Гонтарь Н.В., Горочная В.В., Дец И.А., Кузнецова Т.Ю., Лачининский С.С., Михайлов А.С., Михайлова А.А., Пальмовски Т.Э., Студжиницки Т.П. Приморские зоны России на Балтике: факторы, особенности, перспективы и стратегии трансграничной кластеризации М., 2018. Сер. Научная мысль Балтийского федерального университета. - 216 с.
- Дружинин А.Г. О феномене «западное порубежье России» // Региональные исследования. 2018, 3(61), С. 35-44.
- Калинина А. Э., Петрова Е. А., Лапина М. С., Рвачева А. С. Методические подходы к оценке эффективности реализации кластерной политики в регионах РФ // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. - №2 (58). Номер статьи: 5814. Дата публикации: 2019-06-28. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5814
- Кластерная политика // Инвестиционный портал Ленинградской области. Официальный сайт. http://lenoblinvest.ru/404/itemlist/category/109-klasternaya-politika
- Кластеры Смоленской области // Центр кластерного развития Смоленской области. Официальный сайт. https://ckr67.ru/klastery
- Куликова С. В Псковской области появятся кластеры и технопарки // Федеральное агентство новостей. 21.05.2018. Электронный ресурс: https://riafan.ru/region/pskov/1059167-v-pskovskoi-oblasti-poyavyatsya-klastery-i-tekhnoparki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
- Миненкова В. В. Туристические кластеры Краснодарского края // Туризм и региональное развитие. Смоленск, 2017. С. 169-174.
- Научно-производственный электротехнический кластер Курской области. Официальный сайт. https://kurskcluster.ru/
- Об утверждении концепции кластерной политики Воронежской области в промышленном секторе экономики. Электронный ресурс. URL: http://docs.cntd.ru/document/441724566
- Промышленные кластеры Краснодарского края и Ростовской области. Ассоциация кластеров и технопарков России. Электронный ресурс: http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/promyshlennye-klastery-krasnodarskogo-kraya-i-rostovskoy-oblasti/
- Промышленные кластеры // Центр развития промышленности Ленинградской области. Официальный сайт. https://crplo.ru/clusters
- Промышленный кластер Краснодарского края «Кубань». Официальный сайт: https://www.kubanklaster.ru/
- Промышленный электротехнический кластер Псковской области. Официальный сайт. http://pskovpromcluster.ru/klaster/about/
- Развитие творческого кластера Республики Карелия // Министерство культуры Республики Карелия. Официальный сайт. http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/tvorcheskie_industrii/razvitieundefinedtvorcheskogoundefinedklasteraundefinedrespublikiundefinedkareliya
- Ракова Е. В Брянской области создадут туристический кластер «Хрустальный город» // Комсомольская правда. 18.06.2016. Электронный ресурс: https://www.bryansk.kp.ru/daily/26544.7/3560447
- Регионы России. Социально-экономические показатели 2018. Официальный портал Фдеральной службы государственной статистики. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
- Туристический кластер Псковской области: рекреационные ресурсы и основные аспекты деятельности организаций в сфере туризма. Аналитическая записка // Территориальный орган государственной статистики по Псковской области. 2018. Электронный ресурс: http://gkk.pskov.ru/sites/default/files/analiticheskaya_zapiska_turizm.pdf
- Туристический кластер Смоленской области. Официальный сайт. https://turcluster67.ru/
- Формирование машиностроительного кластера в Карелии // Торгово-промышленная палата Республики Карелия. Карельский деловой портал. http://www.karelia.biz/content/detail.php?articles=15598
- Центр кластерного развития // Белгородский региональный ресурсный инновационный центр. Официальный сайт. http://brric31.ru/centr-klasternogo-razvitiya
- Центр кластерного развития Воронежской области. Официальный сайт. http://cluster36.ru/Cluster
- Центр кластерного развития Мурманской области. Официальный сайт. http://murmancluster.ru/
- Центр кластерного развития Республики Карелия. Официальный сайт. http://ckr10.ru/3.html
- Центр кластерного развития Республики Крым. Официальный сайт: https://business.rk.gov.ru/funds/ckr#home
- Центр кластерного развития Санкт-Петербурга. Официальный сайт. https://spbcluster.ru/cluster/
- Kozonogova, E., Elokhova, I., Dubrovskaya, J., Goncharova, N. Does state cluster policy really promote regional development? the case of IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 497, Issue 1, 3 April 2019, International Scientific Conference on Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service, DTMIS 2018; Peter the Great St. Petersburg Polytechnic UniversitySaint-Petersburg; Russian Federation; 21 November 2018.