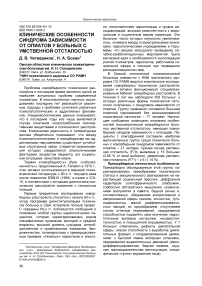Клинические особенности синдрома зависимости от опиатов у больных с умственной отсталостью
Автор: Четвериков Дмитрий Владимирович, Бохан Н.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Практическая наркология
Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295379
IDR: 14295379 | УДК: 616.89-008.441.33
Текст статьи Клинические особенности синдрома зависимости от опиатов у больных с умственной отсталостью
1НИИ психического здоровья СО РАМН
634014, Томск, ул. Алеутская, 4
Проблема коморбидности психических расстройств в последнее время является одной из наиболее актуальных проблем современной психиатрии. В многочисленных научных исследованиях последних лет реализуются различные подходы к проблеме сочетания различных психопатологических и аддиктивных феноменов. Эпидемиологические данные показывают, что в последние годы все чаще выявляются случаи сочетания злоупотребления психоактивными веществами и психического расстройства. Клиническая реальность и литературные данные убедительно показывают, что между психопатологическими и коморбидными им ад-диктивными нарушениями существуют устойчивые структурные связи, стереотип возникновения которых определяется этиологическими факторами, возрастом пациента, его социальной ситуацией, качеством жизни.
Термин «коморбидность» (букв. «соболез-ненность»), предложенный A. Fenstein в 1970 г., стал активно использоваться в мировой психиатрической литературе с 80-х гг. текущего века после появления DSM-III (1980), а позже и ICD-10, в соответствии с которыми диагностика психических расстройств возможна с нескольких позиций.
Первые предметные исследования комор-бидных расстройств относятся к началу 60-х гг., когда программа деинституализации психически больных в США потерпела полный провал. С середины 60-х гг. публикуются сообщения о появлении особой группы наркологических пациентов, которая характеризовалась рядом специфических признаков: молодой и средний возрасты; высокий уровень суицидов, антиобщественное и криминальное поведение, бродяжничество, полинаркотизм с преимущественным приемом «тяжелых» наркотиков и алкого- ля; несоответствие наркотизации и уровня десоциализации, высокая резистентность к медицинским и социальным мерам коррекции. Эти больные, число которых неуклонно увеличивалось, кочевали между психиатрическими клиниками, наркологическими учреждениями и тюрьмами, что весьма затрудняло проведение лечебно-реабилитационных мероприятий. Была высказана идея о необходимости консолидации усилий психиатров, наркологов, работников социальной сферы и полиции при проведении ресоциализационных мер.
В Омской клинической психиатрической больнице совместно с НИИ психического здоровья СО РАМН ведутся комплексные исследования коморбидных психических расстройств, создан и активно функционирует специализированный Кабинет коморбидных расстройств. В течении 5 лет мы наблюдали 526 больных, у которых различные формы психической патологии сочетались с синдромом зависимости от опиатов. Группу сравнения составили больные опиатной наркоманией без ассоциированной психической патологии – 77 человек. Настоящее сообщение посвящено описанию особенностей психиатрической коморбидности больных умственной отсталостью, имеющих комор-бидный синдром зависимости к опиоидам. Пациенты с олигофренией составили наиболее малочисленную группу среди психически больных с коморбидным синдромом зависимости от опиатов – 21 человек, причем легкая умственная отсталость (F70) выявлена у 15 больных (2,85 % от всей выборки), умеренная умственная отсталость (F71) – у 6 (1,14 %).
Преморбидные личностные особенности . Преморбидно обследованные этой группы характеризовались своеобразием психического статуса и эмоционального реагирования на нарастающий социальный прессинг, диффузным характером олигофренического слабоумия, слабостью абстрактного мышления, ограничением восприятия и памяти, бедной речью и, соответственно, обеднением экспрессивной и импрессивной сферы психики, косностью, туго-подвижностью, малой дифференцированностью эмоций, их однообразием, отсутствием тонких оттенков переживаний, недоразвитой способностью подавлять свои влечения, недостаточным волевым контролем, несамостоятельностью и повышенной внушаемостью. У 7 больных отмечались дефекты двигательной сферы, низкая способность к выработке двигательных формул, к координированным движениям, к быстрой смене моторных установок, недоразвитие выразительных движений (малодифференцированная, бедная мимика, скудная, маловыразительная жестикуляция, специфическое «тупое» выражение лица).
Большинство пациентов этой группы (14 человек) относились к гипердинамическому типу олигофренов. Для них были характерны растор-моженность, импульсивность, частые колебания настроения, легкая возбудимость, моторная оживленность, неусидчивость, они склонны к бесцельной и безмотивной деятельности. Настроение в преморбидный период было подвержено у них резким колебаниям: от благодушновеселого к раздражительно-злобному.
Аддиктивное поведение до начала потребления опиатов у этих больных характеризовалось умеренной алкоголизацией, всегда групповой, в компании лиц, младших по возрасту. Лишь у трети больных выявлены признаки алкогольной зависимости до формирования СЗО. К специфическим чертам раннего алкоголизма у этой группы олигофренов следует отнести быстрое вовлечение в групповое потребления алкоголя вследствие индукции алкоголи-зирующихся сверстников. В данном контексте особое значение приобретают несформирован-ность мотивационной сферы, экстернальный локус контроля, что ограничивало личностную автономность, в том числе и в выборе стереотипа пьянства. Отметим, что в целом ритуальный компонент алкоголизации существенно снижен. Данное обстоятельство обусловлено малодифференцированной сферой социальных интересов у лиц с умственной отсталостью, где любой повод к праздникам и торжествам воспринимается как сигнал к массивной алкоголизации с соответствующими соматическими и социальными последствиями. Отмечалась первичная интернализация брутальных паттернов потребления алкоголя, обусловленная формированием в криминально-маргинальной среде, что обусловило у 3 больных быстрое формирование опохмеления. Гедонистические мотивы в мотивационном поле потребления алкоголя были существенно снижены, происходило их замещение мотивом группового потребления с целью получения соответствующей референции. Этим обусловлено и то обстоятельство, что алкоголизация дебютировала преимущественно с тяжелых алкогольных напитков, прежде всего самогона и больших объемов пива. Вкусовые качества спиртных напитков для олигофренов были не актуальны.
На этапе преморбидной алкоголизации у олигофренов с СЗО отмечался низкий уровень психологической защиты личности на нарастание пьянства, что проявлялось в тусклости и неотчетливости борьбы мотивов, отсутствии спонтанных попыток ограничить алкоголизацию и симптома «последнего раза». В целом психологические защиты личности для раннего алкоголизма у олигофренов характеризовались тенденцией к архаичности, и реализовались преимущественно регрессией и проекцией.
Концептуализация пьянства была крайне примитивна и ограничивалась клишированной репродукцией социальных мотивов.
Клинически отмечался быстрый рост толерантности, причем как разовой, так и суточной, а также активное потребление суррогатных спиртных напитков. Быстро трансформировалось опьянение от эйфорического к дисфорическому, а в значительной части клинических ситуаций алкогольное опьянение носило изначально брутальный характер со злобой, немотивированной агрессией, расторможением низших инстинктов, что мы связываем с органической неполноценностью высшей нервной деятельности у большинства олигофренов.
Формирование алкогольного синдрома отмены также было ускорено, причем преимущественно за счет выраженного влечения к алкоголю, которое принимало экспансивный характер с малодифференцированным поисковым поведением. Перехода к одиночному пьянству не наблюдалось. Негативные соматические переживания, усиленные ипохондрической готовностью, столь характерной для олигофренов, становились причиной потребления опиатных наркотиков, которые на начальных этапах СЗО существенно облегчали субъективный компонент алкогольного абстинентного синдрома.
Клинико-динамические особенности синдрома зависимости от опиатов . Мотивацией для первых проб у лиц с олигофренией во всех наблюдаемых ситуациях была индукция со стороны наркотизирующихся сверстников. Клинические варианты СЗО в группе встречались со следующей частотой. 1. Неосложненный СЗО – 14 пациентов – 66,7 % от группы (10 пациентов с легкой олигофренией – 47,7 % от группы и 4 – с умеренной – 19,0 %). 2. Средне- и малопрогредиентный СЗО, возникший на фоне малопрогредиентной алкогольной зависимости – 3 больных – 14,3 % (2 больных с легкой олигофренией – 9,5 % и 1 больной с умеренной – 4,8 %). 3. Злокачественный СЗО, возникший на фоне высокопрогредиентной алкогольной зависимости – 1 больной с легкой олигофренией – 4,8 %). 4. Викарное злоупотребление алкоголем на фоне сформированного СЗО, «злокачественный» вариант – 3 больных – 14,3 % (2 больных с легкой олигофренией – 9,5 % и 1 больной с умеренной – 4,8 %).
Как видно из представленных данных, у больных олигофренией наиболее часто встречаются неосложненные формы СЗО, причем их уровень на 17,3 % больше, чем в группе сравнения.
Клиника синдрома отмены. В ходе развертывания синдрома отмены опиатов у лиц с олигофренией происходит некоторая задержка абстинентной симптоматики в первые сутки. К исходу первых суток больные становились мрач- ными, ипохондричными, предъявляли массу мигрирующих полиморфных жалоб без четкой локализации. Вегетативные расстройства были скуднее, чем в группе сравнения, алгические – практически не отмечались. Характерным признаком для этих пациентов было практически полное отсутствие нарушений сна на весь период синдрома отмены опиатов, столько актуального для пациентов без коморбидной психиатрической патологии. К исходу 1,5—2-х суток нарастали вегетативные и аффективные расстройства, больные становились нетерпимыми, назойливыми, предъявляли жалобы на дискомфорт во внутренних органах. Поведение напоминало вольерные движения, двигательная активность была высока, больные стереотипно двигались в пределах палаты, периодически ложились в постель и накрывались с головой одеялом, нередко засыпали в течение дня на несколько часов. У этих пациентов синдром отмены протекал тяжелее в условиях закрытого психиатрического отделения. В отделении у пациентов наблюдались спонтанно возникающие состояния тревоги, острой растерянности, немотивированного страха. На высоте страха и растерянности у 7 больных имели место малооформленные, элементарные и быстро проходящие идеи отношения и преследования, которые частично объясняли неадекватный, безудержный характер поведения в этих состояниях.
В тесном клиническом единстве с состояниями острого страха и растерянности находилась другая форма патологических реакций олигофренов, которая получила в литературе обозначение как «реакция тоски по дому» (6 наблюдений). Здесь еще большее значение имеет фактор новой, необычной для больного ситуации, неожиданное появление большого количества непривычных раздражителей, существенно усиленной ситуацией отмены наркотиков. «Реакция тоски по дому» является почти специфичной для дебильности и возникает у больных в непривычном для них окружении, когда они отрываются от хорошо знакомой и освоенной ими обстановки, от родных и близких и должны резко изменить привычный повседневный уклад и распорядок своей жизни. Этот тип болезненного состояния чаще наблюдается у тех пациентов, которые много лет находились в условиях замкнутого окружения, с небольшим количеством внешних раздражителей, с повторяющимся изо дня в день распорядком жизни. Клинически эта форма патологической реакции приобретала характер бурного психотического криза, на высоте которого у больных наступало иногда состояние измененного сознания. Психотическое состояние в форме «реакции тоски по дому» развивалось чаще всего внезапно, остро, в первые 2—3 пребывания в клинике и сопровождалось субъективным чувством нарастающей тоски и тревоги, внутренним беспокойством и тенденцией к разрядке.
Возникшее непреодолимое стремление уйти из новой, чуждой обстановки имело в большинстве случаев недифференцированный характер, т. е. далеко не всегда больные чувствуют стремление вернуться именно к себе домой, к своим родным; чаще больные стремятся уйти куда-нибудь без какой-либо субъективно ясной, целевой направленности. У больных появлялось нарастающее недифференцированное чувство тревоги, тоски, страха, действия их принимали почти рефлекторный, неудержимый характер; они бежали из отделения без цели и без смысла – «куда-нибудь», совершая иногда при этом самые неожиданные и безмотивные действия (нападения на врачей, попытки выхватить ключи у наблюдающего персонала). На высоте этой реакции было характерно состояние неясного сознания, что выявлялось в неправильном, искаженном восприятии окружающего, в неадекватном, неправильном поведении, в частом последующем запамятовании больными своих действий в этот отрезок времени.
Клиника постабстинентного периода . Постабстинентный период у пациентов описываемой группы по своим клинико-динамическим особенностям существенно различался в зависимости от преморбидных личностных характеристик. Для дисфорического варианта (14 наблюдений) в постабстинентном периоде ведущими клиническими признаками были аффективная неустойчивость, склонность к эмоциональным разрядам наряду с частыми колебаниями настроения. Эти вспышки возбуждения бывали настолько не адекватны внешнему поводу, что производили впечатление спонтанно возникших разрядов. Чем глубже была степень олигофрении, тем более выраженный «органический характер» носили эти эмоциональные разряды и тем меньше они поддавались коррекции. Нередко состояния возбуждения сочетались с недовольно-брюзжащим настроением. Говоря об этих колебаниях настроения, следует отметить, что они отличались от истинных дисфорий тем, что при них не наблюдается нарушения сознания. Кроме того, больные не столько злобно-тоскливы, сколько раздражительнопридирчивы, плаксивы, требовательны. Сам эмоциональный разряд носил обычно неудержимый характер: больные впадали в состояние ярости, набрасывались на окружающих, проявляли агрессию в отношении лиц, случайно попавших в их поле зрения. В состоянии такого возбуждения они обычно не поддавались уговорам даже тех лиц, к которым в обычное время особенно привязаны, не считались с возможными последствиями своих действий.
Эти больные представляли большие трудности в условиях домашнего пребывания после выписки из стационара. Со слов родственников, пациенты, и до начала потребления опиатов не отличающиеся высокой семейно-социальной конгруэнтностью, становились «совершенно невозможными». Осознания болезненности своего состояния у пациентов не наступало, они считали, что «вылечились от наркомании» и настойчиво требовали денег для развлечения, а иногда и совершенно немотивированно. В постабстинентном периоде аффективный фон был крайне неустойчив: периоды недовольно-брюзжащего настроения с массой ипохондрических жалоб сменялись вышеуказанными дисфо-риоподобными вспышками. Практически сразу же после возвращения в семью пациенты начинали нелепо красть, злоупотреблять алкоголем, что являлось причиной продолжения тяжелой, конфликтной ситуации в семье. В силу особенностей своего поведения они нередко вступали в конфликт с законом. Указанные нарушения в сочетании с интеллектуальной недостаточностью служили препятствием к социальнотрудовой реабилитации и продолжению осознанной психофармакотерапии, однако назначение препаратов, корректирующих поведение, улучшало состояние больных, делало их более комплайентными, контактными, послушными.
В этой группе выявлялась тенденция к довольно легкой декомпенсации психического состояния, причем эта декомпенсация проявляется главным образом в резком усилении и заострении имеющихся эмоционально-волевых нарушений. Указанные изменения в психическом состоянии этих больных были обусловлены травмирующей ситуацией, иногда внезапным изменением привычных условий жизни, пережитым страхом. Под влиянием указанных моментов больные становились особенно назойливыми, раздражительными, гневливыми, вступали в конфликты с окружающими, бывали агрессивны. В это время у них чаще, чем обычно, возникали эмоциональные разряды. В данной группе в 5 случаях мы не наблюдали стойких ремиссий СЗО, пациенты весьма быстро возобновляли прием наркотиков либо начинали активно алкоголизироваться. Однако 9 больных этой группы по миновании 3—4 месяцев после перенесенной абстиненции обнаруживали позитивную динамику в стабилизации и даже некотором развитии интеллектуального статуса. Смягчались аффективно-волевые нарушения, становилась более компенсированной регуляция поведения, обогащался словарный запас, приобретался большой объем представлений и трудовых навыков, становилась более полноценной критическая оценка своего состояния и окружающего, иногда улучшалась память, у больного возникали примитивные гиперсоци- альные установки. Более того, при планомерной психосоциальной реабилитации у этих пациентов удалось достигнуть длительной ремиссии СЗО. Катамнестические наблюдения показывают, что все они создали семьи либо продолжали примитивную трудовую деятельность в сельских условиях при соответствующем контроле родственников.
При астеническом варианте постабстинентного периода (7 наблюдений) больные в течении нескольких недель предъявляли малодифференцированные жалобы соматоипохонд-рического характера, указывали на повышенную утомляемость, физическую слабость, вялость. Интенсивность этих ипохондрических синдромов была различной: в ряде случаев имеется определенная охваченность ипохондрическими переживаниями, напоминающая ограниченное во времени сверхценное образование с доминированием в клинической картине массивных и чаще всего полиморфных ипохондрических жалоб; иногда же ипохондрический синдром носит значительно более интенсивный характер, ипохондрические утверждения становятся явно нелепыми, некорригируемыми.
В беседах с пациентами этой группы обращал внимание замедленный темп психических процессов. Больные медленно осмысляли задаваемые им вопросы, отвечали на них после длительной паузы и раздумья, нередко лишь после настойчивых повторений вопроса. В случаях вынужденного убыстрения привычного для них медленного темпа психических процессов наступало состояние растерянности. Подобные состояния кратковременной «декомпенсации» у олигофренов особенно бросались в глаза в тех случаях, когда пациенты госпитализировались в клинику для лечения наркомании – практически все время они были совершенно бестолковы, беспомощны, «более слабоумными», чем были в действительности, нуждались в постоянной заботе персонала.
Двигательная сфера и мимика были скудны. Амплитуда эмоциональных реакций крайне незначительна, их проявления однообразны, не-дифференцированы. Скудность аффективных реакций граничила нередко с эмоциональной тупостью, особенно в отношении окружающих их лиц, даже самых близких. Происходящие вокруг события, в том числе и посещения клиники, оставляли их равнодушными и безучастными. В социально-восстановительные процессы эти больные не вовлекались. Пассивно принимали назначенные препараты, от прежних контактов с потребителями наркотиков отказывались. Периодически родственники этих пациентов отмечали, что у них в вечернее время наблюдались неглубокие маломотивированные аффективные разряды с попытками покинуть дом, однако указания родственников на воз- можность их госпитализации в психиатрическую больницу либо прием небольших дом аминазина купировал данные проявления. Больные вновь становились вялыми, равнодушными, застенчивыми, покорными, субдепрессивными.
У 5 больных с побочным течением постабстинентного периода через 3—5 недель разворачивались депрессивные состояния. Общей особенностью клиники данных расстройств у этих больных было преобладание в клинической картине явлений заторможенности, что усиливало впечатление о монотонности течения заболевания. У больных не встречались продуктивные психотические симптомы. На подобном эмоциональном фоне периодически (1—2 раза в неделю) отмечались периоды эмоциональной напряженности, страха, тревоги, которые расценивались как эквиваленты эпизодов компульсивного влечения к наркотикам. Обычно подобные состояния возникали при изменении внешней ситуации, семейных конфликтах. В этих эпизодах наблюдался аффект страха, тревоги, растерянности, при этом отсутствовала истерическая симптоматика, поведение больных было естественно, примитивно. Установить связь их высказываний с реальной травмирующей ситуацией было непросто, тревога и страх у них недифференцированны, причина тоски часто неясна самому больному. Больные были тревожны, растеряны, тоскливы, не ориентированы в ситуации, легко пугались, часто плакали. При обращении к ним они не отвечали обычно на вопросы или же отвечали односложно, невпопад, иногда же спонтанно повторяли стереотипную фразу. У некоторых больных на тревожно-депрессивном фоне выявлялись элементарные, неоформленные и нестойкие идеи отношения («все смотрят на меня», «хотят сделать плохое» и т. д.). Наркоманические идеи в эти кратковременные эпизоды практически не звучали, и при достаточном внешнем контроле и верном поведении окружающих они заканчивались достаточно быстро.
i
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что у больных умственной отсталостью пренаркома-ническое аддиктивное поведение, специфика формирования синдрома зависимости от опиатов, его динамика, синдром отмены и постабстинентный период находятся в тесной связи с интеллектуальными, эмоционально-волевыми и личностными характеристиками пациентов. Указанные особенности следует учитывать на всех этапах лечения и реабилитации пациентов с данным вариантом ассоциированной психической патологии, а также при профилактике аддиктивного поведения психически больных лиц.