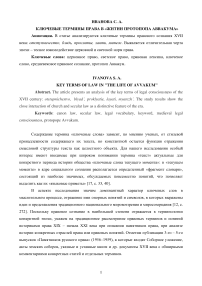Ключевые термины права в "Житии протопопа Аввакума"
Бесплатный доступ
В статье анализируются ключевые термины правового сознания XVII века: отступничество, блядь, проклятие, лаяти, мятеж. Выявляется отличительная черта эпохи - тесное взаимодействие церковной и светской норм права.
Правовая лексика, протопоп аввакум, светское право, средневековое правовое сознание, церковное право
Короткий адрес: https://sciup.org/147249323
IDR: 147249323 | УДК: 81'74:341.2
Текст научной статьи Ключевые термины права в "Житии протопопа Аввакума"
Содержание термина «ключевые слова» зависит, по мнению ученых, от стилевой принадлежности содержащего их текста, но константной остается функция отражения смысловой структуры текста как целостного объекта. Для нашего исследования особый интерес имеют вводимые при широком понимании термина «текст» актуальные для конкретного периода истории общества «ключевые слова текущего момента»: в «текущем моменте» в ядре социального сознания располагается определенный «фрагмент словаря», состоящий из наиболее значимых, обсуждаемых повсеместно понятий, что позволяет выделить как их «языковые приметы» [17, с. 33, 40].
В аспекте исследования значим доминантный характер ключевых слов в мыслительном процессе, отражение ими опорных понятий и символов, в которых выражены идеи и представления традиционного национального мировоззрения и миросозерцания [12, с. 272]. Поскольку правовое сознание в наибольшей степени отражается в терминологии конкретной эпохи, укажем на традиционное рассмотрение правовых терминов и понятий историками права XIX – начала XXI века при описании памятников права, при анализе истории конкретных отраслей права или правовых понятий. Отметим публикации 3-го – 5-го выпусков «Памятников русского права» (1956–1959), в которые входят Соборное уложение, акты земских соборов, указные и уставные книги и др. документы XVII века с обширными комментариями конкретных статей и отдельных терминов.
В истории русского лексики, в том числе специальной, XVII век определяется как период, заложивший основы современной терминологии. Так, Н. Г. Благова выявляет именно в законодательных текстах этого периода характерную и для последующих периодов тенденцию формирования терминологии на базе использования общеупотребительной лексики [1]. Терминологическая лексика права XVII века становится предметом исследования – с разной степенью широты – в работах Е. К. Абрамовой, В. В. Введенской, С. С. Волкова, И. А. Елизаровского, С. Ф. Сорокина, Е. Г. Осокина, И. В. Токмачевой и др., с бóльшим хронологическим охватом – в продолжающихся выпусках материалов к словарю-справочнику «Юридическая лексика русского языка XI – XVII веков» [18; 19].
В последние десятилетия историки государства и права, культурологи все чаще обращаются к анализу феномена правосознания и его специфики в различные эпохи (В. А. Аракчеев, В.Я. Петрухин и др.), но проблема вербализации правового сознания средневекового человека, изучена еще недостаточно, хотя отдельные ее аспекты рассмотрены в статьях Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, В. М. Живова.
Как отмечает В. П. Киржаева, междисциплинарность в современных подходах к изучению юридической лексики XI–XVII вв. требует ее рассмотрения «не только как развивающейся терминосистемы, но и как отражения эволюции правового сознания средневековой Руси», что возможно лишь при условии существенного расширения жанровых рамок источников и включения в них и летописи, и жития, и эпистолярия [7, с. 6; см. также: 8]. «Житие протопопа Аввакума» как такой источник практически не привлекалось, однако в нем нашли отражение правовые коллизии бурного XVII века эпохи, а в структуру введены в пересказе или в точной цитации реальные документы [см.: 5].
В памятнике фиксируются такие тематические группы терминов, как названия социальных групп ( архиепископ, царь, воевода, дьяк, стрелец, государь, боярин, вкладчик в монастыре; патриархов приказ и пр.), виды официальных документов ( грамота, указ, челобитная, сказка и пр.), преступных действий и деяний ( бить, оскорбить, кнутом забить, до смерти убить, мятеж, бесчестие, ссора, <разбойник>, отступничесво и пр.), наказаний ( наказание, казнить, бити кнутом, посадити в тюрьму, сидети за стражею, пытать, застенок и пр.), семантика которых совпадает с терминологией Соборного уложения 1649 г. Анализ их использования протопопом Аввакумом позволил выделить ключевые термины, которые вербализируют правосознание автора и сущностно отражают глубинные причины конфликта, связанного с церковной реформой патриарха Никона: отступничество, блядь, проклятие, мятеж, лаяти .
Обратимся к тем сюжетам «Жития», где использован термин отступничество.
Как известно, затмение солнца в древнем представлении – предзнаменование трагических событий (ср. с эпизодом «Слова о полку Игореве»). Аввакум видит в затмении 1654 г. не просто дурной знак, а Божественную оценку реформы церкви патриархом Никоном. Через 12 лет затмение повторяется: Аввакум уже лишен духовного сана и заключен в Никольский монастырь вместе с другими вождями раскола, Никон – в царской опале, а позднее лишен патриаршего сана и сослан под Вологду в Кирилло-Белозерский монастырь [см.: 3, с. 308]. Аввакум однозначно определяет свою позицию в отношении Никона, используя термин отступник : « в то время [с весны 1653 г.] Никон отступник веру казил и законы церковныя » [4, с. 56]. Эта характеристика становится постоянной: « Я бы и Никона отступника простил, как бы он покаялся о блудни своей ко Христу », « на престол бы патриаршеский пастыря православнова учинил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика », « До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна » и др. [4, с. 84, 92, 101]. К категории «отступников» Аввакум относит и архиепископа Симеона Сибирского, который « ныне учинился отступник », хотя ранее «добр был» [4, с. 38]. Член «кружка ревнителей благочестия», в период Тобольской ссылки поддерживавший протопопа, Симеон участвовал в утвердившем реформу церковном соборе 1654 г., а в 1664–1667 гг. в «справе церковных книг» [см. подробнее: 3, с. 307–360].
В лексикографических источниках квалифицированы как церковноправовые термины отступничество ‘отступление от догматов веры’, за что, судя по иллюстрации из Ефремовской Кормчей, предписано наказание « быти отъвьрженомъ », и отступник ‘изменник’, ‘изменник, отступник; вероотступник’, ‘отпадший, отвергшийся, отступивший от кого или от чего, отметчик, изменник и предатель’ [15, т. 2, стб. 814–815; 13, вып. 14, с. 42; 2, т. 2, с. 1332]. В рукописном тексте Апокалипсиса XIII века дериват оступникъ приведен как постоянное имя Антихриста: «Начьртание же пагубнаго имени и оступника [антихриста] вся наложити потщиться» [цит. по: 13, вып. 13, с. 167].
В церковно-правовом определении « отстоупникъ – христiанинъ или совершенно отрекшiйся, отпавшiй отъ вѣры во Христа Спасителя < … > или же хотя всѣ таинства признающiй, но дерзающiй къ чистому исповѣданiю вѣры примѣшивать свои измышленыя заблужденiя, противыныя древнему ученiю cв. апостоловъ и отцевъ церкви, отвергающiй древнiе благочестивые обряды и установляющiй свои новые обычаи, противные духу христiанскаго благочестiя . Таковы всѣ древнiе и новые еретики и наши русскiе раскольники » [11, с. 398 – 399] естественна оценка лексикографа, стоящего на позициях официальной церкви и причисляющего Аввакума, как раскольника, к отступникам.
Как известно, на Первом церковном соборе (1654) патриарха Никона был решен вопрос о выборе «греческого» канона в реформировании церкви, что категорически отвергалось протопопом Аввакумом и его сторонниками. Так, Стоглав в главе 31 говорит о двуперстном крестном знамении « Правую бы руку, сиречь десницу, уставливали по крестному воображению: большей палец да два нижний перста воедино совокупив, а верхний перст с середним совокупив, простер и мало нагнув. Тако благословити святителем и иереом, и на себя крестное знамение рукою возлагати двема персты » [16], а в памятной грамоте патриарха Никона 1653 г. указано: « тремя персты бы есте крестились » [9]. Аввакум дает обоснование противоправности введения троеперстия, ссылаясь на канонические, староотеческие, житийные тексты: « По преданию святых отец подобает сложити три перста: великий и мизинец и третий подле мизинаго, – всех трех концы вкупе; се являет триипостасное божество – Отца и Сына и Святаго Духа », « Писано о сем во многиз книгах: во псалтырях и в Кирилове, и о вере, и в житье Мелетиеве », « Тако научиша нас персты слагати святии отцы » [4, с. 79], – а также на постановления Стоглавого Собора 1551 г., которые были упразднены в 1667 г.: « Еще же и московский поместный бывый собор при царе Иване так же слагая персты креститися и благословляти повелевает, яко ж прежнии святии отцы Мелетий и прочии научиша. Тогда при царе Иване быша на соборе знаменосцы Гурий и Варсонофий, казанские чудотворцы и Филипп, соловецкий игумен, от святых русских » [4, с. 101–102]. Отвергает Аввакум и изменения в церковном ритуале, опираясь на закрепленное Стоглавом в главе 42 запрещение «трегубой Аллилуйи», которая « несть православных предание, но латынская ересь »: « и повеле православным хрестьяном говорити сугубую аллилуйю, а третие “Слава тебе, боже” » [16]. Он включает этот законодательный текст в корпус авторитетных источников оценки преступности деяний Никона: « У святых согласно, у Дионисия и у Василия; трижды воспевающе, со ангелы славим бога, а не четыржи, по римской бляди; мерско богу четверичное воспевание сицевое: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже! » [4, с. 57]. Цель протопопа – сохранение традиции, по которой определение Никона как отступника не оскорбление, а выражение традиционных церковноправовых норм.
Терминологический характер имеет в приведенном выше отрывке и слово блядь : « У святых согласно, у Дионисия и у Василия; трижды воспевающе, со ангелы славим бога, а не четыржи, по римской бляди» (с. 57). В исторической лексикографии оно приводится со значениями ‘обман, вздор, пустяки’, ‘отпадение от истиной веры, впадение в раскол или в ересь’, ‘ересь, лжеучение’ и ‘ложь, обман’ [15, т. 1, стб. 123; 2, т. 1, с. 88; 13, вып. 1, с. 251] и иллюстрируется цитатами из богословских переводных источников XI–XIV вв. (« Ихъ же (язычниковъ) бляди мънѣ вся жрьтвы ») и устойчивым словосочетанием кощюнные бляди
‘наносящие оскорбления религиозным идеалам, святыням, чувствам и т. д.’ [15, т. 1, стб. 123]. Таким образом, изначально термином определялась языческая традиция, стоявшая в оппозиции к христианской, церковной. По мнению комментаторов изданий Жития, у Аввакума реализовано именно терминологическое значение «лживая, дьявольская вера», «обман, ересь» [3, с. 455, 361]. В историко-правовой терминографии указано значение ‘обманъ, заблуждение’, ‘ложь, неправда, обман’ с уточнением «нередко в церковных текстах в переносном смысле означало идолопоклонство, еретичество» [11, с. 49; 6, с. 17]. Стоглав в главе 63 относит это преступление исключительно к юрисдикции церкви: « урекание три бляднею и зелий, и еретичеством <...> те все суды церквам божиим даны суть преже нас по законом и по правилом святых отец крестьянскими цари и князи во всех крестьянских людех. И царю, и князю, и бояром, и судиям в те суды нельзе вступатися » [16]. Номоканон 1653 г. в правиле 20 определяет меру наказания отступнику: «да извержется, по четыридесят шестому правилу святых апостол » [10] («лишение, снятие сана, титула (низложение, свержение») [13, вып.6, с. 109].
Наказание за нарушение церковного канона, по видению Аввакума, несет весь русский православный народ: гнев Божий, предзнаменованный затмением солнца, реализуется в опустошительной моровой язве (чуме 1654 г. [3, с. 308]); Никон же и его сторонники заслуживают церковного проклятия: «Да будет проклят сице поюще » [4, с. 57].
По лексикографическим источникам, глагол проклинати имеет значения ‘призывать проклятие, отвергать’ (в отношении языческой обрядовости, например, по Минеям XI в., «в сознании средневекового человека проклятию подвергались кумиры и идольские капища»); ‘подвергать анафеме, отлучению от церкви’ (например, «Синодикъ есмь послалъ къ вамъ правыи Царегородскыи, по чему и мы здпсе поминаемъ или еретиковъ проклинаемъ») [15, т. 2, стб. 1536]. Проклятию подлежали нарушившие правила: в грамоте митрополита Псковского Киприана 1395 г. предписано, «по чему ходити, какъ ли судити, или кого какъ казнити», и проклятию подлежали те, «кто иметь не потому ходити» [там же, стб. 15361537]. В исторической лексикографии семантика слова проклятие определяется как ‘отлучение от церкви, анафема; отвержение’ [13, вып. 20, с. 153]; характерно толкование деривата проклятство через соположение с атрибутом богомерзкий: «проклятыя или богомерзкия речи, дела, жизнь» [2, т. 3, с. 448]. В церковноправовой терминологии проклятие ‘лишение благословения и осуждение на злополучие’ [11, с. 509], что позволяет соотносить его с термином анафема в развернутом толковании «обещанiе предать что-либо всеистребляющему гн^ву и суду Божiю. Въ книге Левитъ (27, 28-29) анаОемою называется один видъ обетовъ (“всякъ же обѣтъ”) богу, по которому предметъ, обѣщанный Богу “отъ человѣка даже до скота”, не искупится, а должен быть всегда преданъ смерти или уничтоженiю (выделено нами. – С. И.)» [там же, с. 509–510].
Позиция Аввакума соответствует нормам Стоглава, где проклятие определяется мерой наказания за отклонения от норм закона, например, в главе 31 за троеперстие, которое преследуется проклятием : « Аще ли кто двема персты не благословляет, якоже и Христос, или не воображает крестного знамения, да будет проклят , святии отцы рекоша » [16]. Обращение воеводы А. Ф. Пашкова к волхву за предсказанием исхода экспедиции на Мунгальское царство Аввакум также должно караться проклятием.
Интерес представляет в сюжете с волхованием описание нанесения словесного оскорбления воеводой протопопу: « он лишо излаял меня » [4, с. 80]. В исторической лексикографии глагол лаяти имеет значение ‘кричать, бранить, браниться’ [15, т. 2, стб. 13]; дефиниция расширяется за счет дополнительных сем, выводимых из употребления в памятниках XVII века: «ругать, бранить, поносить кого-л.»; «бесчестить»: « Вы [томские воеводы] поступаетесь напрасно в мой [кетского воеводы] присуд. тем меня лаете , и мне о том писать государю » [15, вып. 8, с. 181]. Отметим, что глагол терминологизируется именно в эпоху Московского государства, когда «лаем стали называть преступления, связанные с оскорблением словом» [6, с. 49–50].
В описаниях расстроенного состояния церкви, Аввакум использует термин мятеж : « Той же Струна Иван, собрався с людьми, во ин день прииде ко мне в церковь, – а я вечерню пою, – и вскочил в церковь, ухватил Антона на крылосе за бороду. А я в то время двери церковныя затворил и замкнул и никово не пустил, – один он Струна в церкви вертится, что бес. И я, покиня вечерню, с Антоном посадил ево среди церкви на полу и за церковный мятеж постегал ево ременем нарочито-таки »; « До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна » [4, с. 68, 101].
В общелексическом употреблении мятеж имеет значение ‘волнение, смута’ (судя по приведенным примерам, с негативной оценкой события, например: « приведи на кони народъ и дажь въ нею мятежь и разграбленiе. Прибытъкь бо црькъви створи мятежь и напасть ; Бяше ему неполезно и людемъ на мятежь великъ и на брань ») [15, т. 2, стб. 258]; в Молении Даниила Заточника приобретает переносное значение ‘смущение, волнение, возбуждение’ (« Что есть жена зла? мирскы мятежь , ослѣпленiе уму » [там же]), продолжая соотноситься с понятием зла, в ментальности древнерусского человека противостоящего божественному, христианскому; дополняется новыми конкретизирующими семами: «смятенье, востанье, народное волненье; крамола, бунтъ, заговоръ на дѣлѣ» [2, т. 2, с. 968]. Оценке Аввакума постреформенного состояния церкви в наибольшей степени соответствуют дефиниции
‘беспорядок; смута, мятеж, возмущение; смущение, волнение, тревога; ложное представление, заблуждение’ [13, вып. 9, с. 350].
Преступный характер этого деяния, состав преступления и меры наказания (публичное телесное наказание кнутом) определены в главе I Соборного уложения «О богохульниках и церковных мятежниках», например, в статье 3 « А будет кто во время святыя Литургии и в и(ы)ное церковное пение, вшед в церковь Божию, учнет говорити непристойные речи патриарху, или митрополиту, или архиепископу и епископу, или архимариту, или игумену и священническому чину, и тем в церкви Божественному пению учинит мятеж , а государю про то ведомо учинится и сыщется про то допряма, и тому бесчиннику за ту его вину учинити торговая казнь » [14, с. 19].
Таким образом, анализ широко употребляемых в XVII в. и не характерных для современной эпохи терминов отступничество, блядь, проклятие, лаяти, мятеж , дает представление об особенностях правового сознания человека того времени, в котором сосуществовали одновременно и церковная, и светская нормы права, тесно взаимодействуя друг с другом, а церковное законодательство, являясь основой светского, продолжало играть в разрешении правовых коллизий важную, а в некоторых случаях и решающую роль.