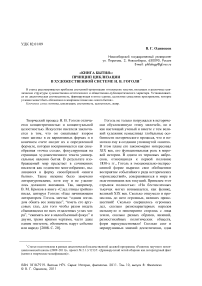«Книга бытия»: принцип циклизации в художественной системе Н. В. Гоголя
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема системной организации гоголевских текстов, входящих в различные циклические структуры художественно-эстетического и общественно-публицистического характера. Устанавливается их диалогическая соотнесенность, формирующая в итоге единое, целостное смысловое пространство, которое условно может быть обозначено в жанровом плане как «книга бытия».
Поэтика, циклизация, системность, целостность, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/14737588
IDR: 14737588 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи «Книга бытия»: принцип циклизации в художественной системе Н. В. Гоголя
Творческий процесс Н. В. Гоголя отличается концентричностью и концептуальной целостностью. Искусство писателя заключается в том, что он охватывает взором «всю жизнь» в ее вариативных формах и в конечном счете сводит их к определенной формуле, которая воспринимается как своеобразная «точка схода», фокусирующая на страницах художественного текста универсальные явления бытия. В результате изображаемый мир предстает в сочинениях писателя как «единство многообразия», вылившееся в форму своеобразной «книги бытия». Такое явление было замечено литературоведами, хотя ему и не уделяя-лось должного внимания. Так, например, В. М. Крюков в книге «След птицы тройки» писал, цитируя Гоголя: «Еще начинающим литератором Гоголь мечтал “одним взглядом обнять все живущее”, “иметь сто аргусовых глаз, для того чтобы разом видеть сбывающееся во всех отдаленных углах мира”, “сжимать все в малообъемный фокус” и двумя, тремя яркими чертами, часто даже одним эпитетом, обозначить вдруг событие или народ» [2008. С. 20].
Гоголь не только погружался в исторически обусловленную «тину мелочей», но и как настоящий ученый и вместе с тем великий художник осмысливал глобальные особенности исторического процесса, что и помогало ему в создании упомянутой «книги». В этом плане его закономерно интересовал XIX век, его функциональная роль в мировой истории. В одном из черновых набросков, относящихся к первой половине 1830-х гг., Гоголь в эмоционально-экспрессивной форме выразил свое обобщенное восприятие событийного ряда исторических «происшествий», совершившихся в мире и подготовивших век текущий. Приведем этот отрывок полностью: «На бесчисленных тысячах могил возвышается, как феникс, великий XIX век. Сколько отшумело и пронеслось до него огромных, великих происшествий! Сколько свершилось огромных дел, сколько разнохарактерных народов мелькнуло и невозвратно стерлось с лица земли, сколько разных образов, явлений, разностихийных политических обществ, форм пересуществовало! Сколько сект и неразрушимых мнений деспотически, одна за другой обнимало мир; рушились с своими порядками целые волны народов. Сколько бесчисленных революций раскинуло по прошедшему разнохарактерные следствия! Какую бездну опыта должен приобресть XIX век!» (7, 146) 1.
Гоголь жадно впитывал и пытался осмыслить все происходящее вокруг. Он как художник был погружен в детали, фрагменты и даже, как уже сказано, в мелочи жизни, но частности у него всегда интегрировались в системе эпохального единства и в итоге вели к «Божественному откровению», которое обнаруживалось через совокупность светских и религиозно окрашенных текстов. Для этого он использует принцип циклизации, который проявляется и в чисто художественных произведениях, и в пестрых собраниях разножанровых сборников, представляющих собой единый, внутренне организованный ансамбль.
В проблемно-теоретическом плане имеет смысл выделить крупным планом два оригинальных гоголевских цикла: «Арабески» и «Выбранные места из переписки с друзьями», которые в своей целокупности и диалогической соотнесенности являют феноменальную творческую манеру Гоголя, создавшего, по сути, «энциклопедию русской жизни» в аспекте ее теоретического и художественного осмысления. Именно в «Арабесках» писатель обратил пристальное внимание на сам принцип сочетания единства и многообразия, который постулировал его собственное творческое сознание. В статье «Шлецер, Миллер и Гердер» Гоголь писал: «Шлецер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы. Он хотел одним взглядом обнять весь мир, всё живущее» (7, 303). А в статье «Несколько слов о Пушкине» мы встречаемся с вариантом аналогичной мысли: «Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства (курсив наш. – В. О. ); каждое слово необъятно, как поэт» (7, 264).
В цикле «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь мастерски завершил реализацию провозглашенного им принципа текстового ансамбля, составленного из казалось бы автономных фрагментов. В. А. Воропаев, ссылаясь на авторитетное суждение архимандрита Феодора, заметил, что мысли Гоголя, «как они по внешнему виду ни разбросаны и ни рассеяны в письмах, имеют строгую внутреннюю связь и последовательность, а потому представляют стройное целое» [2008. С. 96]. Далее исследователь пишет: «В своей книге Гоголь выступил в роли государственного мыслителя, стремящегося к наилучшему устройству страны…». А его взгляд на Россию – «это прежде всего взгляд православного христианина, сознающего, что все материальные богатства должны быть подчинены высшей цели и направлены к ней» [Там же. С. 100, 101].
Значение такого рода соображений, ценных с точки зрения социально-философского и эстетического осмысления действительности, усугубляется тем, что они характеризуют определенный уровень художественно-теоретического мышления, генетически связанный и соотносимый с уровнем, который установили и отработали мудрые головы писателей русского средневековья. С точки зрения средневекового человека культура не знает старения, представляя сумму вечных идей. Призвание же писателя состоит в том, чтобы передавать эти идеи людям. Гоголь как раз и пытался выделить то, что сейчас определяется термином «концепт», давая, в сущности, расшифровку этого понятия в историкотипологическом и конкретном планах. Он сознательно отбирал факты общечеловеческого значения или религиозные постулаты, которые воплощались ранее в целом спектре отдельных произведений разной тематической и жанровой природы. В этом плане он был наследником традиций национальной культуры и творческим их продолжателем, устремленным в будущее.
«Книги» Гоголя вследствие такого подхода энциклопедичны. В этом отношении они развивают принципы нашей древней литературы, в которой проявилась «общая тенденция средневековой культуры – рассматривать каждую книгу как энциклопедическое собрание вечных идей.
«Книги-циклы», такие как «Арабески» и «Выбранные места…», насыщены материалами, почерпнутыми Гоголем из авторитетных для него источников, в том числе из писем разных лиц, в которых слышны «чу- жие» голоса. В этом пункте автор оживляет творческие установки древнерусского писателя, который делал выписки из чужих авторитетных трудов, включая некоторые из них в состав своих произведений.
И еще одно замечание: известно, что многие древнерусские литературные произведения дошли до нас в сборниках разнообразного состава. Характерно, что Гоголь также использовал эту возможность, включив в «Арабески» некоторые художественные создания, вошедшие затем в цикл «Петербургских повестей».
Обратимся теперь непосредственно к двум упомянутым циклам и попробуем вычленить главные структурирующие элементы, придающие идейно-художественную целостность как внутренней организации текстов, так и их диалогической соотнесенности.
Предполагая, что «книга», как и в древнерусской литературе, являет собой «круг знания», Гоголь в предисловии к сборнику «Арабески» пояснил, что он предметом избирал только то, что сильно его «поражало» (7, 241). Попутно он заметил: «Если сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого» (7, 241).
Попробуем выделить такого рода мысли, которые определяют общую творческую стратегию писателя. Какие же это мысли? Чтобы избежать субъективности в этом вопросе, следует воспользоваться авторскими «подсказками». Гоголь сам выделял цепочки важных для него идей и положений, которые достаточно определенно просматриваются в соотнесенности текстов «Арабесок» и «Выбранных мест из переписки с друзьями». В эту структуру логично включить и наброски плана пятого тома предполагаемого Гоголем собрания его собственных сочинений.
Все эти материалы характеризуют Гоголя не только как великого художника, что стало уже положением бесспорным, но и как замечательного мыслителя, что еще требует определенных доказательств, хотя названные тексты при фронтальном чтении убеждают в этом сразу и навсегда. Выборочносистемный подход дает еще более поразительные результаты. В диалогической соотнесенности двух названных циклов можно увидеть систему эстетических позиций автора, мысль которого работает над формированием ведущей для него идеи и конечного идеала, к которому устремлен писатель как целостная творческая индивидуальность. Характерно, что на эту особенность обратил внимание еще В. Г. Белинский, который разглядел сущность и форму воплощения принципа, получившего название «телеологический» – целевой, установочный. Им воспользовался в свое время А. П. Скафтымов при характеристике нравственных исканий русских писателей. Он отметил, что «созданию искусства предшествует задание. Заданием автора определяются все части и детали его творчества» [1972. С. 23].
Гоголь творил в русле собственных «идейных установок», прокладывая дорогу к постижению духовного идеала в широком смысле этого слова, Белинский сумел «извлечь» эту тенденцию из гоголевских художественных произведений. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» критик писал: «Художник чувствует в себе присутствие воспринятой им идеи, но, так сказать, не видит ее ясно и томится желанием сделать ее осязательною для себя и других: вот первый акт творчества» [Белинский, 1973. С. 302].
В дальнейшем идея «проясняется перед его глазами, облекается в живые образы, переходит в идеалы …». А эти образы, эти идеалы, по мнению Белинского, в свою очередь, «вынашиваются, зреют, выясняются постепенно, наконец, поэт уже видит их, говорит с ними, знает их речь, движения, манеры» и т. д. При этом он «видит их прежде, нежели его перо дало им формы, точно так же, как Рафаэль видел перед собою небесный, нерукотворный образ Мадонны прежде, нежели его кисть приковала его к полотну…» [Там же].
Условно говоря, «нерукотворный образ» проступал и в сознании Гоголя, и это фиксируется в ансамблевом сочетании различных его составляющих. В этом плане характерны гоголевские замыслы своеобразных «циклов», в контексте которых проступают контуры «идеи-идеала», лежащей в основе художественного «сооружения», обозначаемого нами как «Книга бытия». Обобщающая проблемная концепция прорисовывается в двух циклах – в «Арабесках» и «Выбранных местах из переписки с друзьями», которые авторской волей оказались выборочно объединенными в предполагаемом плане издания пятого тома собрания сочинений Гоголя.
В нашем случае важно выделить доминантные идеи в обоих циклах, которые входят в гипотетический мир «книги бытия» и формируют ее основу. Прежде всего следует обратить внимание на произведение, озаглавленное «Жизнь». Оно показательно в том отношении, что в нем повествуется о рождении Христа как явлении вселенского масштаба: «За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит Младенец: над Ним склонилась Непорочная Мать и глядит на него исполненными слез очами; над Ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом». Значение события подчеркнуто пафосным финалом: «Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли…» (6, 249).
Прочитав эти строки, читатель мог убедиться в закономерности появления на страницах «Арабесок» «исторической характеристики», озаглавленной «Ал-Мамун», в которой автор затронул тему Востока в аспекте столкновений магометанской и христианской религий. По утверждению Гоголя, правитель Ал-Мамун, «исполненный ума чисто теоретического, будучи выше суеверий и предрассудков, будучи ближе познакомлен с некоторыми догмами христианства, нежели его предшественники, он не мог не видеть всех бесчисленных противоречий, пламенных нелепостей, которые вырывались всеместно в постановлениях творца Корана» (7, 335–336).
Этот «восточный» оттенок постепенно исчез из поля зрения автора, но христианская идея разрабатывалась дальше. Гоголь ее акцентировал в плане издания пятого тома своих сочинений. Знаменательно, что открываться этот том должен был именно фрагментом «Жизнь», имевшим знаковый характер. Его особый смысл выясняется достаточно определенно, если обратить внимание на то, каким произведением должен был логически заканчиваться названный том. А он должен быть завершаться очерком «Светлое Воскресение». Гоголь обозначил таким образом глобальное движение религиозной мысли во времени – от рождения до воскресения Христа. Но тема Воскресения прозвучала уже в «Выбранных местах…». И Гоголь выделил ее особо, так как «христианская идея» в творчестве писателя была организующей в системе всех его творческих замыслов. В последнем цикле он достраивал «духовный храм», слагаемый из различных фрагментов Священного Писания и актуальной жизненной практики. В «Светлом Воскресении» автор писал: «Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит… и говорит: “У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресение Христово”» (6, 193).
Из «Выбранных мест…» в пятом томе должно было быть опубликовано и такое поддерживающее религиозную идею произведение, как «Христианин идет вперед». В нем Гоголь провозглашает «высшую способность» человека – «мудрость», которую «может дать нам один Христос» (6, 52). И тогда «глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик» (6, 52). Открытие «мудрой стороны» в «глупейшем предмете» станет принципом и гоголевского художественного сознания.
Последуем дальше за Гоголем-мудрецом, раскроем его «книгу ученья», представленную им в форме «арабесок». Ключевым в ней является и критический очерк «Последний день Помпеи», на который исследователи Гоголя ссылались по разным поводам. В данном случае следует обратить внимание на его функцию в конституировании гипотетического текста «Книги бытия», о чем уже говорилось ранее. Этот очерк, появившийся в «Арабесках», можно сказать, спровоцировал появление в «Выбранных местах…» критической статьи о картине А. Иванова «Явление Христа народу». Любопытно и знаменательно, что в проекте пятого тома Гоголь их поставил рядом, чтобы они читались как своеобразная дилогия. Эта дилогия логично вписывалась в рамочную композицию пятого тома, начатого и законченного темой Христа. В чем же суть соотнесенности двух полотен великих художников? В общем плане тема искусства затронута в обоих циклах. И она является как бы почвой, на которой вырастает древо гоголевских религиозно-этических размышлений.
В замечаниях к оглавлению пятого тома Гоголь сформулировал решаемую этим изданием общую теоретическую задачу: «Пятый том составил в себе почти все мои теоретические понятия, какие я имел о литературе и об искусстве и о том, что должно двигать литературу нашу» (6, 245). Мысли писателя по поводу картины К. Брюллова эпиграфичны по отношению к целому комплексу его собственных сочинений. Он постоянно находился под впечатлением от великого создания художника. Гоголь построил, условно говоря, своеобразную теоретическую модель, или матрицу, анализ которой приводит не только к пониманию тех явлений искусства, которые уже состоялись, но и тех, которые обязательно должны появиться. Сам писатель чувствовал, можно сказать, закономерную необходимость, выражаясь образно, «явления Христа народу». Это явление в разных теоретических и чисто художественных аспектах было предусмотрено уже очерком «Жизнь», но оно было запрограммировано изначально в концептуальном плане в статье о картине Брюллова.
Картина поразила Гоголя, как он сам признался, изображением «сильных кризисов», чувствуемых «целою массою». В этом плане она в сознании писателя, и не только его одного, порождала религиозные чувства. Присутствие в картине «Божьего духа» подтвердил и святитель Игнатий (архимандрит Сергиевой пустыни), который в письме к Брюллову заметил, что его картина – «выражение сильно жаждущей души», и она как являющая подлинную красоту должна быть «помазана Духом» (3–4, 505–506). Гоголь, всегда стремившийся к идеалу, это хорошо чувствовал. Позже, в 40-е гг., он соединил восприятие картины Брюллова с впечатлением от еще одного великого творения – картины А. Иванова «Явление Христа народу».
Истолкование этой картины не просто хронологически последовало за статьей о Брюллове, но явилось частью, как уже отмечено, критической «дилогии», в которой разъединенность и трагичность мира земного трактовались в плане конечного духовного спасения, совсем в духе Откровения
Иоанна Богослова. По сути, Гоголь с этой точки зрения и рассматривал творческий подвиг А. Иванова. «С производством этой картины, – замечает писатель, – связалось собственное душевное дело художника, – явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто выше человека» (6, 111). Заметим, что «душевное дело» художника обнаруживается и в картине Брюллова, который, по логике Гоголя, тоже не мог обойтись «без воли Того, Кто повыше человека». Показательно, что в пространство рушащегося мира Брюллов «вписал» и себя как объект, как часть этого мира, воспроизведя на полотне рядом с другими персонажами и собственную личность, соблюдая при этом полное портретное сходство.
На картине А. Иванова Гоголь обнаружил потрясающую деталь – уже не автора картины, а самого себя, притом изображенным на расстоянии нескольких шагов от фигуры Христа. Такое пространственное расположение соответствовало его собственному духовному состоянию, когда он, человек, соединялся с Тем, «Кто повыше человека». Предшествующее «потрясение» переходило теперь в духовное спасение. Гоголя впечатлил именно этот экстремальный момент, который он специально подчеркнул: «Предмет картины… слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно – первое появление Христа народу» (6, 111).
Два аспекта одной магистральной религиозной идеи были специально разъяснены Гоголем в «Выбранных местах из переписки с друзьями», в 27 главе – «Близорукому приятелю». С обличительным пафосом он обращается к адресату: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога (курсив наш. – В. О.). Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие» (6, 127). При этом, что очень показательно, Гоголь видит открытие Божественной истины на пути «потрясения»: «Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясенье, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность…» (6, 128). В этих парадоксальных советах сфокусированы мысли, нашедшие более подробную аргументацию в статьях о Брюллове и Иванове, которые, по плану автора, должны были соединиться в одной книге, в проектируемом пятом томе собрания собственных сочинений.
Таким образом, ансамблевая соотнесенность живописных полотен создавала в воображении автора своеобразный «панорамный цикл», конструктивно перекрываемый в идейном плане повествовательными структурами очерков «Жизнь» и «Светлое Воскресенье». Под пером художника они обрели форму любимого им «купола», под которым разместились, как в храме, живописные создания К. Брюллова и А. Иванова, искателей великой истины, раскрытой в двух гоголевских теоретических «комментариях» к полотнам этих мастеров. Здесь характерно то, что автор стремится к универсальному осмыслению жизненных явлений на основе постижения результата синтеза искусств. В этом и состоял, по Гоголю, «акт творения».
Такой вывод сделал в свое время В. А. Жуковский. Он подчеркивал, как и Гоголь, что «акт творения» состоит в осуществлении «идеи творца». И тут же называл способы ее осуществления: « художество в разных видах, поэзия, живопись, музыка, ваяние; его материалы: слово, краска, согласие звуков, твердая масса» [Жуковский, 1985. С. 180]. Показательно то, что эти слова были откликом на «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847 г.). Но уже в «Арабесках» (1835 г.) Гоголь опубликовал статью «Скульптура, живопись и музыка», которая открывала сборник. Писатель лаконично определил функции этих искусств: скульптура воспевает «гордую красоту человека», живопись «соединяет чувственное с духовным», музыка, по Гоголю, «восторженнее», «стремительнее» «обеих сестер своих». В этих определениях сказался исторический, эстетический опыт автора, который приоткрывал и тайные субъективные стороны его личного дарования. Особое значение Гоголь придавал архитектурным формам.
В статье «Об архитектуре нынешнего времени», также вошедшей в сборник «Арабески», архитектура Запада и Востока характеризуются Гоголем так, что вторым планом четко вырисовываются его собственные творческие установки. Неслучайно писатель заметил: «Архитектура – тоже летопись мира: она говорит тогда, когда молчат и песни, и предания…» (6, 57). Особую привлекательность для него в этой системе представляет «купол», гимн которому прозвучал еще в «Сорочинской ярмарке». В данном случае он подчеркивает его эстетическое значение, видя в нем «лучшее, прекраснейшее творение вкуса» [Одиноков, 2010].
Теперь можно сказать, что единый словесный проект «духовного храма» уже намечен Гоголем, хотя и не завершен. Формирующаяся в контексте творческого мира автора «книга бытия» содержит и другие концептуально важные моменты. Речь идет о художественных произведениях, которые писатель включил в общую систему своих разнообразных циклов. Мы имеем в виду, прежде всего, повести, вошедшие затем в «петербургский цикл». Петербургский художественный цикл свил себе «гнездо», как и другие аналогичные циклы, под сводами создаваемого писателем всеобъединяющего идейно-художественного пространства. Задача заключается в том, чтобы, не нарушая общей архитектоники творческого процесса Гоголя, рассмотреть их роль и функциональное значение в контурно намеченной системе гоголевского творчества.
В данном случае рационально опять начать с «Арабесок», в составе которых особо следует выделить повести «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего». Это выделение ни в коем случае не предполагает «ущемление» других текстов, но предпочтительно с точки зрения репрезентативности материалов в рамках рассматриваемой нами общей проблемы. В художественном пространстве Гоголя, который уже освоил украинскую тему, намечается образ Петербурга. В замысле «Арабесок» он прорисовывается во фрагменте «Дождь», где упомянут «болотный город» и главная его магистраль – «Невский проспект» (7, 118– 119). В дальнейшем «Невский проспект» обрел форму законченной повести и открыл цикл «Петербургских повестей», в котором логично оказались и «Записки сумасшедшего», представленные автором вначале также на страницах «Арабесок» и вошедшие в общий ансамблевый строй этой необычной «книги».
Идейно-поэтическая самодостаточность названного произведения, его жанровая определенность, казалось бы, не совпадают с заявленной автором структурой сборника. Но писатель так сумел организовать и подать материал, что он, включенный в «лабиринт сцеплений», расширил смысловое поле рассказа до пределов гоголевского художественного пространства в целом. Достаточно указать на «след птицы тройки», который возник на страницах «Записок сумасшедшего». Он обнаружился на просторах России и явил собой финальный образ, сопряженный с общей архитектоникой «Божественного мира», уже прорисованного в ранее представленных произведениях. Не случайно В. Г. Белинский заметил, что Гоголь создал «психологическую историю болезни», по своей поэтической форме «достойную кисти Шекспира» [Белинский, 1973. С. 345].
В «Записках сумасшедшего» присутствуют особые знаковые текстовые элементы. Они в художественном космосе Гоголя обнаруживают почти иллюстративное движение объектов в художественном пространстве произведения. Герой повести Поприщин в своем сумасшедшем состоянии «движется», однако, в очень реальном, топографически определенном мире. Проследим это движение, которое интегрирует принципиально важные авторские проблемные установки, спектр которых захватывает, по сути, все творчество Гоголя. Здесь важно отметить прием, который условно можно назвать «образной самоцитацией», т. е. возвращением к художественным элементам, которые уже фигурировали ранее в различных контекстах и обрели знаковый смысл.
Изображая безумие Поприщина, Гоголь трактует его в религиозном плане как форму безумия реального мира перед Богом. Комментарием в данном случае могут служить слова апостола Павла из «Послания к Коринфянам»: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом…» (I Кор. 3, 18–19). Прорисовывая перспективу духовного возрождения личности в глобальном смысле, Гоголь изображает процесс мучительного прояснения сознания Поприщина, стремящегося вырваться из лап безумного мира. В этот момент внезапно появляется мотив спасительной «птицы-тройки», который яв- ляется одним из ведущих в художественной партитуре поэмы «Мертвые души». Обратимся к авторскому тексту. Поприщин погибает от безысходности: «Нет, больше не имею сил терпеть». И тут появляется образ «тройки»: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света!».
Но тройка не уносит его с «этого света». Лукавство Гоголя заключается в том, что тройка несет несчастного над землей по вполне определенному маршруту, что для нас, в эпоху авиации, не является чем-то сенсационным. «Летит» Поприщин на Восток, т. е. в знакомые ему края, в Россию. Рационализм его мышления подчеркнут Гоголем и проявляется в том, что на Запад можно лететь только в Америку, ибо герой находится на границе Евразийского континента, в Испании.
Испания осмысливается, конечно, как край Европы. Поприщин попал на эту западную «окраину» из Петербурга. Теперь он, заметим, возвращается другим маршрутом – не через европейские страны, которые в его сознании полностью дискредитированы. Маршрут птицы-тройки специально обыгрывается автором. Используя поэтический принцип «отстраненности», он через призму сознания Поприщина безоговорочно осуждает Запад. Характерно, что путь в Европу из России обозначен в контексте повести маркированными художественными деталями негативного характера. Это воображаемое, миражное движение нашло отражение в «испанской» части дневника По-прищина.
Если попытаться привести его сумбурные записи в некий определенный порядок, выяснится следующий маршрут. Начальный пункт – это Петербург – «окно в Европу», где какой-то «цирюльник с Гороховой» намеревается обратить всех людей в магометанство; затем следует Германия, в которой «хромой бочар» из Гамбурга изготавливает очень плохую Луну, рассыпающуюся от столкновения с Землей; далее – Англия и Франция, которым дана предельно отрицательная характеристика в целом, и, наконец, Испания с ее жестокими порядками, сгубившими окончательно героя повести. Таким образом, Гоголь демонстративно подчеркнул историческую тупиковость движения на Запад и перспективность ориентации на Восток, олицетворяемый Россией. Это направление герой и собирается использовать в своих планах бегства из испанского «плена». Возвращается Попри-щин в своем воспаленном воображении не через упомянутые европейские страны, а через Италию, которая для Гоголя имела особое значение, что подчеркнуто фрагментом «Рим» в «петербургском» цикле. В конце маршрута герой попадает, очевидно, в южные области страны с ее «русскими избами».
Еще раз следует подчеркнуть, что смысл этого движения на Восток проявится особенно четко в поэме «Мертвые души», где будет пропет гимн России, движение которой в мировом геополитическом и духовном пространстве обозначено символически именно образом летящей тройки. В поэме этот образ обретает мощную духовную ауру, поскольку движение вперед Гоголь мыслил как приближение к Богу: «мчится вся вдохновенная Богом». Присмотримся поэтому более внимательно к маршруту тройки, которая уносит героя с ненавистного ему Запада в пределы родной страны.
Гоголь в легком игровом плане отметил некоторые, вроде бы мелкие, детали, связанные с путем возвращения Поприщина домой, в Россию. Вот характерная деталь маршрута, на которую стоит обратить внимание: «с одной стороны море, с другой Италия». Но если всерьез принять это комментирующее замечание и, соблазнившись, посмотреть на географическую карту, можно со всей определенностью установить, что тройка «быстрых, как вихорь, коней» летит через Средиземное море в сторону моря Черного, мимо «басурманской» Турции в южные пределы православной России. Мы, читатели, знаем, что неведомая сила затем перенесет резвых коней через всю Россию, которая сама обратится в «бойкую необго-нимую тройку». Но Поприщин еще не получил необходимой доли наследства от автора того пророческого дара и потенциальной провидческой энергии, которые волшебным образом дали бы ему возможность промчаться и далее, по бескрайним просторам родной земли.
Герой, по воле автора, пока остановился («приземлился»), заметив нечто родное: «Вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном?» Естественно и психологически объяснимо, что «дом» и «мать» – конечные пункты «движения» Поприщина. В данном случае дальнейший «полет» лишается всякого смысла. Но такой «обрыв» компенсируется другим, дополнительным, и сейчас самым важным для Гоголя смыслом. Исходя из реальных географических ориентиров, Поприщин, надо полагать, оказался где-то вблизи Черного моря, ибо иного реального пути для него не было и быть не могло. Географический пункт, куда попадает Попри-щин, имеет знаковый смысл и необходим автору для того, чтобы специально пометить важную в содержательном плане территорию. А территория эта – Украина. Другая земля здесь не предполагается. Ассоциативный строй гоголевской художественной мысли идентифицирует ее с впадающим в Черное море Днепром и – далее – с Запорожьем.
И, очевидно, не случайно в русле такого рода авторских ассоциаций совсем рядом оказывается замысел сугубо украинской повести «Тарас Бульба», публикация первой редакции которой относится к 1835 г. (написана в 1834 г.). В этом же году вышел сборник «Арабески», где и появились «Записки сумасшедшего» (повесть написана в 1834 г.). Следует обратить внимание и на то, что в «Арабесках» уже в полный голос зазвучала украинская тема, соседствовавшая, как известно, не только с «Записками сумасшедшего», но и с такими ключевыми «петербургскими повестями», как «Невский проспект» и «Портрет». Рядом оказались две специфические статьи на «украинские темы»: «Взгляд на составление Малороссии» и «О малороссийских песнях». В этом ряду объективно заняла свое законное место и стоящая несколько в стороне «миргородская» повесть «Тарас Бульба», соединившая в едином целенаправленном творческом процессе и целостном духовном пространстве малороссийские вечера с петербургскими сюжетами и образами.
Гоголь в процессе творческого поиска наметил проблемный узел, сфокусировав внимание на соотношении Востока и Запада. Православно-христианская ориентация писателя заставила его акцентировать роль Востока в сохранении и защиты «истинной веры». Автор старался избегать каких-либо упрощений в этом плане, что подтверждается и его статьей «Взгляд на составление Ма- лороссии», которая является своеобразным историческим «подстрочником» «Тараса Бульбы». Начинает его писатель фразой: «Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век» (7, 152). Далее он говорит о возникновении и исторической роли украинского казачества: «Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление казачества», в котором, по мнению Гоголя, можно было увидеть «зародыши политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель – воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей» (7, 158, 159).
Подводя итог, автор выдвигает фундаментальную мысль относительно исторической роли сформировавшегося «характерного народа» в проблемной ситуации «Восток – Запад»: «И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежащий Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский – народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию – и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование» (7, 160).
Статья эта была написана в 1832 г., затем попала в «Арабески» (1835 г.) и по закономерной творческой логике оказалась в этом цикле рядом со статьей «О малороссийских песнях», созданной в 1833 г. Вместе они идейно предопределили комплекс проблем и художественную тональность повести «Тарас Бульба», первая публикация которой относится именно к 1835 г. «Взгляд на составление Малороссии» проясняет идейную подоснову повести, а очерк о народных малороссийских песнях объясняет ее поэтическое своеобразие. Характеризуя эти песни и их создателей, Гоголь апеллировал к отмеченной нами христианской идее, которая структурировала его разнообразные замыслы, сводя их в единую «книгу». Религиозную «струну» в народной поэзии он выделил особо: «Где же мысли в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтические. Они не изумляются колоссальным созданиям вечного Творца: это изумление принадлежит уже ступившему на высшую ступень самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые обыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, которые они покорили христианству» (7, 164. Курсив наш. – В. О.).
Гениальность «подпольной» мысли Гоголя в «Записках сумасшедшего» заключалась в том, что Поприщин, своей сумасшедшей фантазией занесенный на несущейся «тройке» в южные районы России, где Тарас Бульба со товарищи отстаивал истинную христианскую веру, знаково продолжил русскую национальную идею благотворности духовного освоения пространства на всей восточной территории России, начиная от форпоста – Запорожской вольницы, показавшей миру свое пограничное значение не только в геополитическом отношении, но и с точки зрения православно-христианской веры, до границ «Средиземного моря будущего», Тихого океана.
Как мы знаем, путь на Восток будет продолжен Гоголем, но он сменит в дальнейшем и седока, и ямщика. След птицы-тройки читатель обнаружит в поэме «Мертвые души». Повесть «Тарас Бульба» в этой творческой ситуации органично вписывается в движение художественной мысли автора, диалогически соотносясь с текстами «Вечеров», «Арабесок» и даже «Петербургских повестей», в контексте которых и прорисовался глобальный смысл движения вглубь России.
Уже в финале второй редакции «Тараса Бульбы» прозвучали дифирамбы в адрес русского народа, не разделенного на части, что весьма характерно для Гоголя: «Да разве найдутся на свете такие огни и муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу!». Еще до этого в форме несобственнопрямой речи автор пророчески возгласил: «Придет время, будет время, узнаете вы (враги-иноверцы. – В. О.), что такое православная русская вера!». А в поэме «Мертвые души» птица-тройка летит по воздуху и «мчится вся вдохновенная Богом»: «Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». В «Выбранных местах…», в очерке «Светлое Воскресение», Гоголь завершит мысль поразительным по глубине знания национального духа утверждением: «Вся Россия – один человек, Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других». И – последний аккорд в цепи многочисленных авторских рассуждений: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресение Христово!».
С учетом всех отмеченных обстоятельств можно констатировать, что идея «русскости» в ее государственно-историческом и религиозно-этическом аспектах заложена была в «Арабесках», продуманно репрезентативном произведении, которое читается как органичное и нерушимое целое. Параллельно она фиксировалась в цикле «Миргорода», прорисовалась в бунтарски-страдаль-ческих всплесках сознания Поприщина и с ним вошла в «Петербургский цикл», чтобы развернуться во всю ширь на просторах гоголевской поэмы – как в первой части, так и в общем структурном трехчастном замысле. Но следует учесть при этом одну важную деталь: ведь «Миргород» – это продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в которых автор пытается заглянуть в «корень» и прояснить для себя и читателей вопрос: «Откуда есть пошла Русская земля?». В этом системном плане совершенно органично читаются и «Выбранные места из переписки с друзьями», о чем уже было сказано. Неосмотрительно поэтому делить сис- темное единство художественного наследия Гоголя на части, определяя качественную ценность отдельных его творческих периодов. Периоды, конечно, существовали объективно, но они интегрировались, складывались в единое динамическое целое, вектор развития которого был направлен в общенациональном плане от «языческой тьмы» в сторону «Божественного света».
Мысль народная, национальная, религиозная предстали в творческом наследии Гоголя в лице «одного человека» как типа и в тысячном разнообразии человеческих индивидуальностей. Единство многообразия создавало уровень постижения и воплощения действительности. Поэтому весь комплекс его произведений, представляющий своеобразный цикл, прочитывается в этом ключе как «энциклопедия русской жизни» или – шире – как «книга бытия».