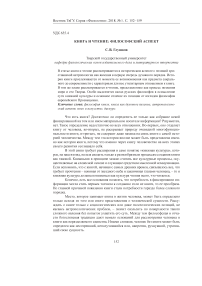Книга и чтение: философский аспект
Автор: Глушков Сергей Владленович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье книга и чтение рассматриваются в историческом аспекте с позиций христианской антропологии как явления в первую очередь духовного порядка. История книги прослеживается от момента ее возникновения как предмета сакрального до современности с характерным для нее утилитарным отношением к книге. В том же плане рассматривается и чтение, представленное как процесс познания мира и его Творца. Особо выделяется вклад русских философов в осмысление сути книжной культуры и основное отличие их позиции от взглядов философов европейского Просвещения.
Философия книги, книга как духовное явление, антропологический аспект, язык и искусство, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/146278385
IDR: 146278385 | УДК: 655.4
Текст научной статьи Книга и чтение: философский аспект
Что есть книга? Достаточно ли определить ее только как собрание некой фиксированной на том или ином материальном носителе информации? Разумеется, нет. Такое определение недостаточно во всех отношениях. Во-первых, оно отделяет книгу от человека, во-вторых, не раскрывает природу очевидной многофункциональности книги, в-третьих, не содержит даже намека на связь книги с самой историей человечества. Между тем эта история вполне может быть представлена именно как история книги, потому что именно через книгу человечество на всех этапах своего развития осознавало себя.
В этой связи требует расширения и само понятие «книжная культура», которое, на наш взгляд, нельзя сводить только к разнообразным процессам создания книги как таковой. Книжными в принципе можно считать все культурные процессы, осуществляемые на словесной основе и служащие средством мысленной коммуникации. Если вспомнить, что с книгой, начиная с самых древних времен, связывалось все, что требует прочтения – начиная от звездного неба и заканчивая глазами человека, – то и книжная культура должна пониматься как культура чтения всего, что читается.
Конечно, есть все основания полагать, что потребность в фиксировании информации могла стать первым толчком к созданию если не книги, то ее прообраза. Но главной причиной появления книги стали потребности гораздо более сложного порядка.
Место, которое занимает книга в жизни человека, может быть определено только исходя из того или иного представления о человеческой сущности. Рассуждать о книге только с социологических или даже гносеологических позиций, не касаясь антропологических проблем, – значит скользить по поверхности такого сложного явления без попыток ухватить его суть. Между тем философская и отчасти богословская традиции дают немало оснований для рассмотрения человека и книги как неразделяемого единства. Иными словами, человек без книги может быть определен как несозревший, неполучившийся или, напротив, рухнувший, утративший свою сущность.
Говоря о богословской традиции, следует иметь в виду прежде всего принятое в христианстве и некоторых других религиях представление о человеке как единстве тела, души и духа. Это представление в общем-то принято и большинством философов, за исключением самых закоренелых материалистов. Христианская антропология трактует душу как средоточие человеческой индивидуальности, то есть как самого человека. Под духом понимается присутствие в человеке не только образа и подобия Божия, но и Самого Бога, объединяющего всех людей, как Его созданий. А тело, бывшее поначалу бессмертным, стало тленным вследствие первородного греха, но в будущем, после Второго Пришествия Спасителя, обретет былое бессмертие.
При чем же здесь книга? Да при том, что спасение, воссоздание падшего человечества возможно только через Слово Божие, через овладение Евангельской истиной.
Не только христианство, но и ислам, и иудаизм, и практически все иные восточные религии рассматривают книгу прежде всего как явление сакрального порядка, надчеловеческое, духовное, то есть в рамках антропологической традиции как соединение человеческой души с духом, называемым Богом, Абсолютом или как-нибудь еще.
За много веков до того, как в Византии появилась книга-кодекс в виде сшитых в один переплет листов пергамента, в сознании древних народов сложилось представление о всеобъемлющем своде выраженных словами сведений об окружающем людей мире, который не только отражает этот мир, но и как бы «запечатывает» его в себе. Прообразом будущей великой Книги для зарождающегося человечества был открытый взору людей мир, заключающий в себе начертанные Творцом письмена. Может быть, наиболее близко к необходимости прочтения подводила человека картина звездного неба – не случайно астрология оказалась древнейшей из «наук», строящейся не на эмпирической, а на чисто интуитивной основе. Человек как бы внутри самого себя находил ключ к прочтению таинственных звездных письмен.
Сотворение книги естественным образом стало для человечества путем следования Творцу. Не удивительно, что первые книги, созданные в рамках самых разных культур и цивилизаций, неизменно становились священными, их сакральная сущность не вызывала никаких сомнений. Эти священные книги воспринимались не как человеческое творение, а как божественное откровение, как мост, соединяющий реальный и трансцендентный миры. И то, что мы называем ныне мировой художественной культурой, в своем развитии изначально представляло собой движение к созданию книги как средоточию творческих возможностей человека, позволяющих ему вырваться из тенет смертного существования к вечности.
Зарождение и развитие письменности – рисуночной или знаковой – все более и более напрягало воображение и создавало все более широкую картину мира. Несомненно, что человек вкладывал в передаваемые из поколения в поколение письмена нечто большее, чем просто информацию о видимом им мире. Это был творческий процесс формирования все более и более сложной и многообразной человеческой культуры, в ходе которого рождалась новая сущность, соединяющая человека не только с миром, но и с Творцом его. Сам мир преображался, поскольку в него вносилось нечто новое, не бывшее до этого.
Человек не мог не ощущать этого, не чувствовать своей внутренней сопри-родности с Богом, проявляемой именно в процессе творчества. Поэтому все создаваемое человеком немедленно приобретало сакральный смысл, превращалось в предмет поклонения, становилось как бы мостом между Творцом и тварным миром. И книга, становясь венцом творческих возможностей человека, уже с первых шагов в процессе своего создания становилась предметом священным. Одно то, что этот процесс в совершенно разных по своему характеру цивилизациях шел, по сути, в одном и том же направлении, свидетельствует о его глубинной связи с самой сущностью человека и человеческого творчества.
Уже в древнейшей из известных библиотек, содержавшей около 30 тысяч глиняных клинописных табличек, обнаруженных в развалинах дворца ассирийского царя Агишурбанипала и относящихся примерно к XVIII–XVI векам до нашей эры, оказались запечатлены практически все знания и представления, характерные для древней цивилизации Месопотамии, включая знаменитые законы древневавилонского царя Хаммурапи, описания мифов, гимны богам и т. д.
Из этого факта вполне можно заключить, что все эти собранные вместе тексты представлялись чем-то единым и всеобъемлющим и в этом смысле равным миру. Из этого «равенства» между текстом и миром вполне естественно возникало представление и о мире как книге, которая может читаться. Следы этого древнейшего представления очевидно проступают, например, в позднеантичной астрологии, трактовавшей звездное небо как письмена, содержащие некоторое сообщение человеку от высших сил. Не удивительно, что во всех культурах мира книга, независимо от формы, которую она приобретала, и от материала, на который наносились письмена, изначально воспринималась как священный предмет, имеющий очевидную сакральную сущность.
В рамках наиболее близкой нам иудео-христианской цивилизации греческое слово βιβλιά (книги, мн.ч. от ед.ч. βιβλιον – книга) стало названием главной священной книги – Библии. Отсюда пошла традиция, согласно которой само слово «книга» в монотеистических религиях – иудаизме, христианстве, исламе – обрело сакральное значение. Книга стала символом абсолютного знания, вместилищем сокровенной истины, дарованной свыше.
Наиболее ярко такое понимание книги выразилось в завершающем Новый Завет Откровении святого Иоанна Богослова. В открывшемся апостолу пророческом видении вся будущая судьба мира заключалась в книге, запечатанной семью печатями. Книга эта была в правой руке (деснице) Господа, «и никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее» (Отк. 5, 3). И когда Божественный Агнец снимал эти печати одну за другой, картины будущего открывались перед Иоанном не в словесном выражении, а в загадочных видениях, которые он, в свою очередь, должен был записать в книгу.
Отсюда, по всей видимости, и возникло окончательно утвердившееся уже в средние века представление о природе, открывающей перед человеком по Божьей воле свои тайны, как второй после Библии книге того же Автора – Бога. Так сформировался известный параллелизм: природа – это мир как книга, Библия – это книга как мир.
В VII веке эту идею развивает Максим Исповедник, и она остается практически неоспоримой вплоть до эпохи Просвещения. Еще в ХVII веке английский поэт Ф. Куарлеа писал: «Этот мир – книга ин фолио, в которой заглавными литерами набраны великие дела Божьи: каждое творение – страница, и каждое действие – красивая буква, безупречно отпечатанная» [5, с. 262].
Этот образ не потерял свою значимость и в последующие века, найдя свое место и в поэзии Ф. И. Тютчева: «Где вы, о древние народы! / Ваш мир был храмом всех богов, / Вы книгу Матери-природы / Читали ясно без очков!» [4, с. 30].
И все же нельзя не отметить, что эта «книга» разными народами читалась очень по-разному, находя свое отражение в священных книгах разных религий.
Как мы уже определили, становление и развитие мифологического и религиозного сознания во всех человеческих сообществах было теснейшим образом связано с развитием письменности и различных форм книжной культуры. При этом книга в самом процессе ее создания неизменно становилась и вслед за тем воспринималась как средоточие духовной силы, объединяющей людей в их связи с трансцендентным миром. Таким образом, книга во всех цивилизационных и национально-культурных формах своего существования изначально представлялась высшим достижением человеческого духа, соединяющим человека с Богом и вечностью.
Естественно, что и в иерархии культурных ценностей, создаваемых человеком, книга неизменно оказывалась на первом месте. Именно в книге синтезировались, через нее проявлялись и получали определенное развитие все иные достижения человеческой культуры.
Особая роль книжной культуры в становлении русской художественной традиции давно уже представляется аксиоматичной и не требующей особых доказательств. Не вызывает сомнений и тот факт, что именно христианство вывело Русь с периферии мировой истории, дав нашим предкам ощущение причастности к магистральной линии развития человечества, представленной в пришедшей из Византии книжной культуре.
Однако наличие единой линии развития искусства в целом и книги как ее важнейшей составляющей характерно не только для русской, но и для всей мировой художественной культуры. В этой связи закономерен вопрос: как именно шло развитие русской культуры, начиная с принятия Русью христианства, если учесть, что к моменту ее наивысшего развития она приняла совершенно очевидный литературоцентричный характер? И это при том, что в «золотой» для нее XIX век Россия вступила страной почти поголовной неграмотности.
Трудно объяснить удивительный взлет русской книжности и ее далеко не местный характер уже в первые века после Крещения Руси. Самые яркие примеры – «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (1037–1050 гг.) и «Повесть временных лет» (ХII в.), сразу включившие Русь в орбиту вселенской истории. Понятно почему, приобретя столь мощный духовный импульс в самом начале своего развития, русская книжность в течение семи последующих столетий сохраняла по преимуществу религиозный характер. Снижение этого духовного напряжения было равносильно отказу от причастности к мировой истории. Поэтому неудивительно, что древнерусская литература практически не создавала вымышленных героев и сюжетов, не описывала любовных переживаний и вообще не имела светских жанров, подобных рыцарским романам и любовной лирике, свойственной европейскому Средневековью. Славянские книжники не могли помыслить, что письменный язык может служить иным целям, кроме выражения богооткровенной истины христианства.
То же самое можно сказать и о древнерусской культуре в целом. Иконы и церковные фрески не только писались, но и читались, будучи размещены в церковном здании определенным образом и в определенной, обусловленной книжной основой последовательности. Например, иконы церковных праздников, размещенные в календарном порядке, рассказывали о связанных друг с другом событиях евангельской истории, начиная от Рождества Богородицы и вплоть до Ее Успения. Точно так же особые житийные клейма на иконах святых представляли собой, по сути, иконописный вариант жития святого как литературного произведения. На них, как и на словесные жития, распространялся особый канон, освященный традицией, но и вызванный очевидной необходимостью единого, общего для всех членов Церкви понимания отражаемых в них событий. Однако это общее понимание не исключало индивидуального, личностного постижения сути изображаемого, так ярко проявившегося в творениях великих иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Особой глубиной и философичностью отличалось творчество Андрея Рублева, которого современные исследователи нередко называют поэтом и мыслителем [1, с. 138] – то есть так, как принято называть людей именно книжной культуры.
Подобно внутренним росписям, и церковное здание в целом воспринималось как аналог Священного Писания, в первую очередь – Евангелия. Его внешний вид – форма, соотношение частей, украшение и венчающий его крест – целиком определяется внутренним содержанием, то есть теми же иконами, фресками, утварью и находящимися в алтаре священными предметами, как бы рассказывающими о главных событиях христианской истории.
Интересны и примеры соотнесенности песнопений с иконописью. В истории русского искусства особое место занимает цикл росписей Рождественского собора Ферапонтова монастыря, выполненный в конце XV века Дионисием вместе с сыновьями. Он состоит из трех крупных торжественных композиций: «Собор Богородицы», «О Тебе радуется» и «Покров Богородицы», написанных на темы одноименных песнопений. Все вместе они составляют единый «Акафист Божией Матери». Яркие красочные сочетания, пестрые узоры одежд и церковных зданий, изображенных на фресках, радужный ореол вокруг Богородицы, фигура Которой находится в центре каждой из трех композиций, создают духовно-просветленный гармоничный мир, наиболее полно передающих суть богослужебных текстов и песнопений в честь Божией Матери.
Таким образом, уже предыстория книги, путь, пройденный человечеством к ее созданию, свидетельствует об особом, исключительном ее месте во всей мировой истории, а не только в истории культуры. Отсюда с неизбежностью следует вывод о том, что современное состояние книжного дела и его перспективы могут быть рассмотрены и оценены лишь в контексте философского осмысления того, что есть книга – не только в привычном гносеологическом, но и в онтологическом и в антропологическом аспектах.
Истоки такого осмысления легко обнаруживаются в трудах русских мыслителей XIX–XX веков, особенно плодотворно исследовавших проблемы соотношения языка и мышления, мифа и слова, слова как такового и имени, несущего в себе некую скрытую сущность. В то время как западная философская мысль, начиная с эпохи Просвещения, все более рационализируется, сосредотачиваясь на проблемах, связанных с ролью науки и человеческого познания, русская философия в лице своих наиболее выдающихся представителей, напротив, сохраняет тесную связь с богословием, стремясь осмыслить сущность духовной жизни в ее связи с онтологическими проблемами.
В идеологии европейского Просвещения книга занимает еще значимое место – прежде всего как инструмент воспитания. Ее воздействие на человеческое сознание благодаря всё большему распространению грамотности становится много шире, чем во времена средневековья. Признание этой возросшей значимости книги можно увидеть в торжественных книжных аутодафе – когда предавались сожжению «Философские письма» Вольтера, «Эмиль, или О воспитании» Руссо и другие столь же «возмутительные» сочинения. Но в отношении к книге уже нет того поклонения, которое вызывали священные книги древности и средневековья, воспринимавшие- ся как мост между этим миром и миром трансцендентным. Новое время, в сущности, закрепило в сознании людей представление о книге как о высшем достижении культуры, позволяющем закреплять результаты эмпирического познания мира в духе теории познания Джона Локка.
В последующую эпоху книга и вовсе перестает быть объектом философского осмысления. Строго говоря, то же самое можно сказать не только о западной, но и о русской мысли. Однако проблемы, исследуемые русскими философами, оказываются намного ближе к тому, что можно считать сущностью книги – слову и запечатленной в нем мысли. Последним западным мыслителем, обратившимся к этим проблемам, был Вильгельм Гумбольдт (1767–1835 гг.). Но последователями его в этом отношении стали философы исключительно русской школы: А. А. Потебня, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Л. С. Выготский, А. Ф. Лосев и другие.
Можно лишь сожалеть о том, что философские проблемы, непосредственно связанные с книжной культурой, ни русскими, ни зарубежными философами не выделялись в отдельное направление, и даже философия культуры не рассматривала книгу как особую категорию культуры.
Тем не менее именно русские философы, в известной степени опиравшиеся на традиции древнерусской книжности, наиболее близко касались тех философских проблем, которые достаточно тесно связаны с самим феноменом книги как средоточия человеческого мыслительного процесса и как основной формы самовыражения Homo sapiens во всей его полноте. Не менее важно и рассмотрение книги как средства закрепления и усвоения духовного и интеллектуального опыта, подходы к которому также обозначились в работах ряда русских философов.
Нельзя не отметить и вполне очевидной особенности русской философии, состоящей в ее тесной связи с общелитературным процессом. Русский философ, как правило, еще и писатель, или литературный критик, или даже поэт. В любом случае философские проблемы филологии занимают немалое место в трудах русских философов.
Для понимания особенностей словесного выражения человеческой мысли особенно важен вывод Потебни об общих сторонах (или свойствах) языка и искусства. По его словам, «в произведении искусства образ относится к содержанию, как в слове представление – к чувственному образу или понятию» [3, с. 161]. Выделяя в слове внешнюю форму (звук) и внутреннюю форму (этимологическое значение), Потебня и в произведении искусства выделяет внешнюю форму (мраморная статуя) и внутреннюю (женщина с мечом и весами). При этом он особенно настаивает на различении внутренней формы и содержания (идеи), которое особенно ярко выступает при сравнении слов со сходным значением в разных языках. При этом различаются не только звучание слов (внешняя форма), но и этимология (происхождение, корневые связи и пр.).
Отсюда нетрудно сделать вывод, аналогичный тому, что мы делали, рассматривая историю развития художественного творчества человека как движение к книге: всякое произведение искусства может быть «прочитано», как книга, поскольку процесс его восприятия аналогичен (и столь же индивидуален) восприятию устной и письменной речи.
Особенно ясно, по мысли А. А. Потебни, это внутреннее родство искусства и языка проступает в словесном творчестве. В поэтическом тексте буквальное понимание каждого слова неизменно ведет к полному непониманию выражаемого словами образа, который связан не только с внутренней формой (значением), но и с внешней формой (звучанием), которая в поэтическом произведении, как в проявле- нии более сложной, чем обычная речь, душевной деятельности, более проникнута мыслью. При этом Потебня подтверждает мысль Гумбольдта о том, что «язык во всем своем объеме и каждое отдельное слово соответствует искусству, притом не только по своим стихиям, но и способу их соединения» [Там же, с. 165]. Под «стихиями» А. А. Потебня понимает все те же внешнюю и внутреннюю формы, а также содержание.
Таким образом, речь – и устная, и письменная – представляет собой творческий процесс, в котором человек выражает себя так же, как художник в произведении искусства. Тот же творческий характер присущ и чтению. По убеждению Потебни, чем более человек читает, тем более совершенными становятся его мыслительные способности.
Вывод этот, разумеется, касается чтения любых, не только художественных текстов. Подчеркнуть это необходимо, поскольку проблема дискурса (системы «автор – произведение – читатель») активно обсуждается современным литературоведением. В этом контексте именно книга как наиболее обобщенная форма, вмещающая в себя продукт творческого созидания, представляется наиболее универсальным посредником между автором (творцом) и читателем, так же творчески воспринимающим создание автора. Что касается некнижных творений, например, произведений изобразительного искусства, то они, как было отмечено А. А. Потебней, вполне могут быть уподоблены книге, поскольку могут «читаться», по сути, так же, как и книга.
Пожалуй, наиболее ясно эта универсальность книги, так же как многогранная сложность ее восприятия, может быть продемонстрирована на примере музыкального сочинения. Композитор воспроизводит звуки, родившиеся в его творческом сознании, в виде нот, и в записанном виде его произведение ничем принципиально не отличается от текста. При этом, даже используя знаки и словесные обозначения, указывающие на особенности звучания (длительность, темп и т. п.), никогда нельзя утверждать, что на письме обозначены именно те звуки, которые автор «услышал» в своем воображении. И тем более невозможно представить исполнителя, который воспроизводит этот «текст» в точном соответствии с замыслом композитора. В полном соответствии с теорией Потебни, прочтение исполнителя может быть лучше (или, что бывает чаще, хуже) замысла композитора, но никогда не совпадет с ним – даже если исполнителем будет сам композитор! Потому что и ему, как всякому исполнителю, невозможно воспроизвести дважды одно произведение абсолютно идентично.
Нет никакого сомнения, что и восприятие музыки слушателями, то есть фактически опосредованное прочтение изначального музыкального «текста», абсолютно индивидуально и неповторимо.
Столь же сложен дискурс и драматического сочинения. Универсальность книги как материализованного итога человеческого творчества есть следствие первичности слова и словесного искусства по отношению к другим видам искусства. «Прежде дается человеку власть над членораздельностью и словом как материалом поэзии, чем умение справиться со своим голосом, а тем более та степень человеческого развития, которая предполагается пластическими искусствами», – писал Потебня. [Там же, с. 177]. Аналогичным образом Потебня объясняет, почему творения Гомера древнее времени процветания ваяния и зодчества в Греции и почему во всех культурах древнейшими оказываются произведения народной поэзии.
Надо отметить, что идея о приоритете словесного искусства перед всеми иными видами творчества разделялась и развивалась целым рядом русских мыс- лителей. Этим убеждением проникнуто творчество В. Г. Белинского, Ф. И. Буслаева, П. А. Флоренского. Нетрудно усмотреть его и в основе «Психологии искусства» Л. С. Выготского, и в его же последнем труде «Мышление и речь». Так что идея об уподоблении или о сведении всех творческих созданий человека к книге весьма органична для русской философской и вообще гуманитарной традиции.
В заключение хочется отметить, что основные положения данной статьи являются развитием идей автора, отраженных в учебном пособии, созданном в рамках авторского курса «Философия книги», предназначенного для студентов магистратуры по направлению «Издательское дело» [2].
Tver State University the Department of Philological Basics of Publishing and Literary Creation
In this article, books and reading are analyzed in historical perspective from the vantage of Christian anthropology, as phenomena of a primarily spiritual character. The history of books has been traced from the moment when they first appeared as sacred objects, up to the present times characterized by a utilitarian attitude towards the book. In the same vein the reading process is considered, being seen as the process of the world cognition and understanding the Creator’s ways. Highlighted is the contribution of Russian philosophers to understanding of the essence of the book culture, as well as the main difference between their position and that of the European Enlightenment philosophers. Keywords : philosophy of a book, book as a spiritual phenomenon, anthropological aspect, language and art, discourse.
Об авторе:
Список литературы Книга и чтение: философский аспект
- Алпатов М. В. Андрей Рублев. М.: Изобр. искусство, 1972. 206 с.
- Глушков С. В. Философия книги: Учебное пособие. Тверь, 2013. 122 с.
- Потебня А. А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. 622 с.
- Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1966. 511 с.
- Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.