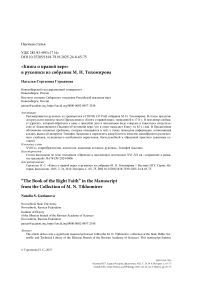«Книга о правой вере» в рукописи из собрания М. Н. Тихомирова
Автор: Гурьянова Н.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается рукопись из хранящегося в ГПНТБ СО РАН собрания М. Н. Тихомирова. В статье представлен результат анализа текста Предисловия к «Книге о правой вере», написанной в 1714 г. В нем автор сообщает адресату, который обратился к нему с просьбой дать в письменном виде «твердое и известное» свидетельство от Божественного Писания об истинной вере, что в ответ высылает Книгу из 62-х глав. В Предисловии обозначены основные проблемы, которые освещаются в ней, а также помещена информация, позволяющая сделать вывод об авторстве Тимофея Лысенина и определить жанр Книги в качестве своеобразного религиозного учебника, излагающего особенности вероучения, богослужебной и обрядовой практики дьяконова согласия.
XVIII в., старообрядчество, идеология, дьяконово согласие, рукопись, Тимофей Лысенин
Короткий адрес: https://sciup.org/147251968
IDR: 147251968 | УДК: 281.93+093«1714» | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-8-65-75
Текст научной статьи «Книга о правой вере» в рукописи из собрания М. Н. Тихомирова
,
,
В начале XVII в. в России после Смуты стал более остро ощущаться духовный кризис, выразившийся в ослаблении роли Церкви в жизни общества. Она попыталась возвратить себе положение важного института, которое занимала прежде. Для этого следовало убедить паству в необходимости вернуться в церкви, доверять священникам и верить в истинность вероучения, переданного от предков. Русский вариант православия к этому времени был только обозначен в постановлениях Стоглава без особых богословских обоснований, а для преодоления духовного кризиса они были необходимы. С этой целью Церковь обратилась к творческому наследию православных писателей Киевской митрополии, живших в конце XVI – начале XVII в. Эти тексты оказали существенное влияние на развитие русской богословской мысли, а в адаптированном для русского читателя виде стали частью традиции Русской церкви, поэтому следует в общем виде охарактеризовать их происхождение.
Западнорусская церковь Константинопольского патриархата в конце XVI в. находилась в Речи Посполитой и оказалась в сложном положении. Поддерживаемые светской властью миссионеры Римского престола вели активную пропаганду с целью заключения Унии. Православные писатели вынуждены были вступать в дискуссии, защищая вероучение. В результате появились произведения, в которых было сформулировано богословское обоснование его особенностей, а также первые православные катехетические сочинения, кратко излагающие суть вероучения. Православные отстаивали свои взгляды в полемике с оппонентами, богословская мысль которых находилась на более высоком уровне развития, поэтому они усваивали их достижения, применяя к своему материалу. Естественно, это привело к развитию западнорусской богословской мысли под латинским влиянием, что хорошо заметно, если обратить внимание на сочинения Лаврентия и Стефана Зизаниев (Тустановских), опубликованные в Киевской митрополии в конце XVI в. 1
В 1596 г. западнорусский епископат заключил унию, приняв условия Рима, и митрополия лишилась иерархии. Кризис в православном обществе еще более обострился, но даже с под- держкой королевской власти униатам не удалось прервать связи православного общества с Константинопольским патриархатом. Оппозицию составили не признавшие унию священники, братства, православная шляхта и мещане. Они сумели отстоять свое право оставаться православными и продолжили борьбу с кризисными явлениями в церковной жизни, хотя православная иерархия была восстановлена только в 1620 г. 2
После заключения Унии православные писатели стали прилагать еще большие усилия по защите вероучения, отстаивая его перед униатами и миссионерами Рима. В создавшейся ситуации важно было не только дать отпор оппонентам, но и привлечь на свою сторону население. С этой целью в родственной митрополии печатались в конце XVI – начале XVII в. так называемые «Книги о вере» – своеобразные религиозные учебники, катехетические сочинения, в которых в доступной форме излагались основы православного вероучения. Оно имело некоторые особенности по сравнению с принятым в Русской церкви, но эти тексты в печатном и рукописном виде распространялись и в России. В них читатели находили не только богословское обоснование близкого по сути описания варианта православия, но и полемику с латинским христианским учением. Естественно, после Смуты эти тексты стали особенно актуальными, но для влияния на религиозное сознание населения необходимо было изложение идей, сформулированных православными писателями Киевской митрополии, в адаптированном для русского читателя виде.
Ориентация Русской церкви на творческое наследие православных писателей Киевской митрополии особенно ярко проявила себя в патриаршество Иосифа 3. В 1644 г. в Москве был издан сборник «Кириллова книга», а в 1648 г. вышла из печати «Книга о вере». Ее автор подвел своеобразный итог изложению основ православного вероучения, которое нашло отражение в Катехизисах и «Книгах о вере» западнорусских писателей, живших в конце XVI – начале XVII в. В этом тексте в особенно четких формулировках проступает восприятие действительности в эсхатологических категориях.
Русская церковь, пытаясь преодолеть духовный кризис, направила свои усилия на обоснование особенностей русского варианта православия. Творческое наследие родственной митрополии, созданное в конце XVI – начале XVII в. в иных исторических условиях с целью отстоять право православного общества на существование, оказалось востребованным. В нем Церковь нашла богословское обоснование основ вероучения, которое обозначено было в решениях Стоглава. В адаптированном для русского читателя виде эти тексты стали частью русской богословской мысли. Ситуация изменилась после избрания на патриарший престол Никона, который внес изменения в обряд и богослужебную практику Русской церкви, зафиксировав их в печатных изданиях.
С первых шагов патриарха по введению новшеств возникла внутрицерковная оппозиция, которая со временем превратилась в широкое религиозно-общественное движение. Первое поколение противников церковной реформы, пытаясь доказать незаконность действий патриарха, сформулировали мысль о нарушении им традиции Русской церкви. Важными в описании этой традиции оказались адаптированные для русских читателей тексты западнорусских православных писателей, изданные Московским печатным двором. Кроме уже двух названных книг, противники церковной реформы использовали Большой Катехизис и Катехизис, связанный с именем Петра Могилы. В них они нашли аргументы в пользу своей точки зрения на введенные патриархом Никоном новшества.
Русская церковь попыталась объявить произведения писателей Киевской митрополии не вполне соответствующими ортодоксальному варианту православия. В Дьяконовых и Поморских ответах старообрядцам удалось отстоять авторитетность изданных в Москве книг, в которых были изложены в адаптированном для русского читателя виде идеи, сформулированные православными писателями Киевской митрополии, жившими в конце XVI – начале
XVII в. После разделения религиозно-общественного движения на два направления, на признающих священников и беспоповцев, в каждом стали образовываться самостоятельные согласия. В начале XVIII в. появились центры, в которых происходило оформление идеологии согласий, определялись основы религиозной жизни общин. Творческое наследие согласия периода его становления в качестве самостоятельного представляет большой интерес для исследователей.
В этом отношении следует обратить внимание на скиты, организованные во второй половине XVII в. противниками церковной реформы на реке Керженец. В конце XVII – начале XVIII в. они стали центром поповского направления старообрядчества, в котором активно обсуждались актуальные проблемы религиозной жизни общин. Об интенсивности полемики свидетельствует большое количество сочинений и рукописных сборников, посвященных этим темам 4. В результате дискуссий обозначились расхождения и были образованы три самостоятельных согласия – онуфриево, софонтиево и дьяконово [Морохин, Сироткин, 2013, с. 489–491].
Процесс оформления идеологии дьяконова согласия 5 хорошо представлен в памятниках письменности. В 1719 г. ими были поданы епископу Питириму Дьяконовы ответы, в которых нашел отражение этап оформления идеологии согласия 6. Известно, что дьяконовцы при их написании обратились за помощью к выговцам, передав сборники подготовительных материалов, составленные идеологом согласия Тимофеем Лысениным. Процесс создания окончательного текста Дьяконовых ответов в достаточной степени исследован. Определенный итог его изучения подведен в статье Е. М. Юхименко. Опираясь на анализ памятников письменности, автор пришла к важному для темы статьи выводу: «Используя материалы, собранные Тимофеем Лысениным, выговцы, точнее Андрей Денисов с ближайшими помощниками, составили полностью текст Дьяконовых ответов. Они опирались на свод доказательств церковно-археологического характера в пользу старой веры, составленный Тимофеем Матвеевым Лысениным» [Юхименко, 2016, с. 431].
О. К. Беляева ввела в научный оборот три ранних дьяконовских сборника и восемь сборников, послуживших подготовительными материалами для Дьяконовых ответов. Текст восьми сборников исследователь назвала «компилятивным сочинением», в котором представлены фрагменты текстов из рукописей и печатных изданий в защиту двуперстного крестного знамения и повторяемости припева церковных песнопений «аллилуйя». Исследователь доказала, что основу текста этих сборников составили материалы, собранные Тимофеем Лысени-ным, вернее, одна из его Книг [Беляева, 1989, с. 211–226].
К сожалению, к настоящему времени известно не очень много сведений о жизни Т. Лысе-нина. Они изложены в двух энциклопедических статьях, в которых отмечено, что первоначально он жил в Москве, а около 1708 г. переселился на Керженец. В статьях кратко охарактеризованы происходившие там споры, поскольку Лысенин принимал в них активное участие, а иногда его сочинения были причиной возникновения дискуссий и последующих разделений на самостоятельные согласия [Понырко, 1993, с. 309–311; Агеева, Юхименко, 2016, с. 717–718]. В этих произведениях он сформулировал идеи, которые во многом определили особенности вероучения дьяконова согласия.
Ярким примером служат написанные в 1709–1710 гг. Книги, дошедшие в составе рукописи РНБ, собрание Погодина, № 1256, которая введена в научный оборот и атрибутирована П. С. Смирновым [1908, с. 102–106]. В состав сборника вошли четыре Книги 7. Они сыграли важную роль в оформлении идеологии согласия. Это был период становления дьяконова со- гласия в качестве самостоятельного, и в этом процессе Тимофей Лысенин сыграл определяющую роль, поэтому так важно углубление наших знаний о его творческом наследии 8.
Е. М. Юхименко, опираясь на проделанную О. К. Беляевой работу по исследованию дьяконовских рукописей, привлекая дополнительно памятники письменности, подтвердила, что одна из Книг Лысенина, вторая, была передана на Выг в качестве материала для подготовительной работы над Дьяконовыми ответами. При этом исследователь привела убедительные аргументы в пользу того, что присутствующие в сборниках и в Книге традиционные тексты «О прощении» являются характеризующим и датирующим признаком рукописных текстов [Юхименко, 2016, с. 423]. Все это свидетельствует о значимости творческого наследия Т. Лысенина для истории поповского направления старообрядчества, для оформления идеологии дьяконова согласия. Представляется актуальным дополнить характеристику его взглядов.
В ГПНТБ СО РАН в собрании М. Н. Тихомирова хранится рукопись начала XVIII в. с приплетенной позже тетрадью из бумаги конца века. На листах с 3-го по 357-й (верхняя пагинация) находится текст, который дал название рукописи – «Книга о правой вере» 9. По содержанию это, действительно, изложение основ вероучения дьяконова согласия, но название дано только в инвентарной описи по фрагменту текста, помещенного после завершения последней главы. Он был включен в л. 356 и сохранен при переплете в конце XVIII в. В нем речь идет о писателе московского издания «Книги о вере», цитаты из которого активно использовались при изложении основ вероучения дьяконова согласия. После этого помещен традиционный для дьяконовских сборников текст «О прощении» с датой 7222 (1714 г.) 10.
Скорее всего, сохраненный текст на фрагменте листа относился к Послесловию, которое иногда присутствует в дьяконовских сборниках. В рукописи Тих. 529 без приплетенной в конце XVIII в. тетради представлена Книга в 62-х главах с оглавлением (л. 3 – 9 об.), предисловием (л. 10–22), основным текстом и традиционным обращением «О прощении» (л. 23– 357). Рукопись не является автографом, это писарская копия. По содержанию ее можно определить в качестве учебника религиозного характера, в котором в доступной для читателя форме излагаются основы вероучения дьяконова согласия. При написании этого текста использованы материалы из четырех Книг Т. Лысенина. Скорее всего, он был автором и «Книги о правой вере». Об этом позволяет говорить вводный текст, озаглавленный так: «Предисловие благочестивому брату и другу искреннему».
Автор обозначил адресата в качестве не только единоверца, но и близкого человека, который, как сообщается далее, обратился к нему с просьбой: «Понеже прошение твое бысть и возбуждаеши мя, еже дати тебе написано твердое же и известное свидетельство от Божественных Писаний о первоначалнейшем християньском и велицем предании церковнем…» 11. В данном случае практически дословно заимствована начальная фраза из Трактата о двуперстии Герасима Фирсова, но указано, что необходимо не только осветить проблему «сложения перстов», но и дать характеристику всему преданию церковному 12. Явно подражая соловецкому иноку, автор Предисловия сообщает, что задумался о своей способности выполнить просьбу. Он описал причины этого, отметив свою «немощь и ума нищету», последнюю объяснил отсутствием обучения «наукам философским».
Далее поясняется, что отказать в просьбе автор не смог, поскольку переживаемые времена есть «последние», в которые «велик пламень злохитрых и многоглавных ересей разгореся» 13. Тема переживаемого времени как антихристова поднимается в каждой главе, иногда в форме констатации, но чаще в виде эсхатологических построений. В Предисловии после утверждения о наступлении царства антихриста автор объясняет, почему нельзя оставить без ответа обращение, если есть возможность поделиться знанием Священного Писания и святоотеческого предания. При этом он подчеркнул, что хотя он «всех земнородных грешнее есмь», но не должен «премолчевати или таити правду Божию» 14. Автор Предисловия оценивает представленный текст как пояснение «о правде Божией». Свои рассуждения он подкрепляет цитатами из Священного Писания и святоотеческого предания. Автор часто в основном тексте будет подчеркивать, что разъясняет «правду Божию».
Обращение к единоверцу в начале Книги было подражанием соловецкому иноку только по форме. Совершенно очевидно, что автор вел разговор с реальным, авторитетным, знакомым человеком. В Предисловии объясняется и обосновывается причина появления Книги, а также выражена благодарность и сформулирована просьба, повторившая суть текста «О прощении», но обращенная лично к собеседнику: «Ты же, возлюбленне, прием сия вся собрания искуси, прочитай, разсмотряй прилежно… Аще же обрящеши погрешно в чем забвением или неразумием, и то такоже по свидетельству Святых Писаний исправи, а не просто» 15.
Ниже автор пояснит, по какой причине адресат должен это сделать: «Понеже твоего ради ко мне усердия и любве нелицемерныя вся сия собрах. И ты мя грубаго подвиг на сицевый труд» 16. Речь идет о том, что адресат уговорил, «подви́г», автора Предисловия на сбор «свидетельств от Писания» в защиту точки зрения на новшества, введенные патриархом Никоном. В этих обращениях проступает уважительное отношение к единомышленнику, признание его авторитета, поскольку он не только способен был убедить заняться поиском аргументов, но и материально поддерживал это мероприятие много лет.
Совершенно очевидно, что текст Предисловия написан Тимофеем Лысениным. В нем описан процесс сбора свидетельств из рукописей и старопечатных книг в пользу точки зрения противников церковной реформы на новшества. Он обращается с благодарностью к адресату за поддержку: «Ей, твоим убо воистину благодеянием и радением сподобил мя Господь, недостойнаго, толикое множество много книг видети и брати свободно и собирати от них о настоящих винах веси бо и сам киликое сотворил еси тщание и почести книгохрани-телем честным и преводчику» 17. После этого следует подробное описание реального сюжета о доносе и изъятии у Т. Лысенина выписок книгохранителями, которые были возвращены после проверки 18.
Затем автор замечает, что удовлетворен результатами поиска свидетельств: «И довлеет ми сего истиннаго свидетельства двадесять бо лет уже собирах от Писания. И много истощих на се имения нашего» 19. Обращает на себя внимание указание, что он много потратил за эти 20 лет «имения нашего», т. е. адресат принимал участие в финансировании мероприятия. Т. Лысенин сообщает, каким образом он поступил с собранными выписками: «И тебе убо сие собранейце послах и у себе удержав. Ныне же в сия зрю и верую по Божественому Писанию и по сему разделяю истину от прелести и правду от лжи» 20. Речь идет о рукописи с фрагментами текстов и ее копии, которую он отправил своему единоверцу. Заключительная фраза позволяет предположить, что Т. Лысенин знакомство с отобранными им выписками считал равносильным обращению к Божественному Писанию.
Используя эти выписки, он написал четыре Книги и составил сборники подготовительных материалов к Дьяконовым ответам. В рукописи Тих. 529 представлена еще одна Книга из 62-х глав. В Предисловии автор поясняет адресату ее содержание, всякий раз приводя цитаты из Священного Писания или из святоотеческого предания в качестве аргумента той мысли, которую он высказал или только еще собирался это сделать. На поле обязательно указан исходный текст. В данном случае имеет место традиционное использование цитат. Гораздо больший интерес представляют авторские рассуждения. В них находим уже не только почтительно-уважительные обращения к более мудрому собеседнику, но и обозначение проблем, которые освещаются в Книге.
Например, после отсылок к сочинениям Иоанна Дамаскина, Максима Грека, Никона Черногорца, Иоанна Златоуста, в которых утверждалось, что для «разделения истины от прелести» необходимо прибегать к Божественному Писанию, автор обращается к адресату: «Молю же и тя ведати и веровати токмо по Писанию святых книг, а не на ино что взирати. Мнози бо ныне прелестницы смятоша люди Божия и в недоумения вложиша, развращенная глаголюще. Ты же о сем не удивляйся, но к Божественному Писанию прибегай. Вина же смятению бысть любоначалных властей мнение и лживых учителей» 21. В этом рассуждении обращает на себя внимание описание причин уклонения от веры. Кроме традиционного для религиозного сознания пояснения о действиях «лживых учителей», виной названо «любоначалных властей мнение», которое поставлено на первое место. В данном случае автор обозначил проблему влияния на ситуацию с расколом в России церковных властей. Действительно, несколько глав Книги посвящены описанию деятельности патриарха Никона, которая привела, как считает старообрядец, к отступлению от истинной веры и преследованиям защищающих ее.
Тема необходимости обращения к Священному Писанию, чтобы не впасть в ересь, в той или иной мере затрагивается во всех главах. При этом всякий раз отмечается важность этого в современном мире, поскольку переживаемые времена есть «последние», в которые вопрос об уклонении от веры особенно актуален. Поместив соответствующие цитаты из Священного Писания и святоотеческого предания о распространении в этот период ложных учений, автор приводит значительный фрагмент из «Книги о вере», указав на поле источник. Он предваряет его следующей фразой, обозначив важную тему: «И еще писано есть о смятении последних дней сице…» 22 Пространная цитата из 23-й главы «Книги о вере» (Книга, 1648, л. 215 об. – 216) подвела своеобразный итог рассуждению об опасности для христианина переживаемого времени, в которое трудно определить, где истинная Церковь, истинное учение. Завершает фрагмент утверждение, что христиане в этой ситуации должны прибегать к Священному Писанию: «Христиане, хотящии вправду во християньстей вере утвердитися, ни к чесому же иному да бежат, точию к Писанию. Аще бо на ино что взирати будут, соблазнятся и погибнут, не разумеюще кая бы была истинная Христова церковь» 23.
В Предисловии автор явно стремился подготовить адресата к восприятию присланного текста Книги, пояснив сложность обсуждаемых тем. Всякий раз он вводит новую, поместив личное обращение: «Аз же ти глаголю, не внимай речению нынешних блазнителей, глаголющих о християнех сия: Многи у вас свары и разделения. Понеже сей глагол ельлин-ский» 24. Автор обозначил важную проблему распрей внутри старообрядческого движения и сразу заявил о несогласии с такой постановкой вопроса. Приведя соответствующие цитаты из святоотеческого предания, в которых говорилось о «соблазнах еретических», вызывающих споры внутри христиан, автор заключает: «Мнози бо ныне зряще соблазны еретическия сами блазнятся и прочих неведущих соблажняют, а потрудитися о всем и поискати во Святом Писании ленятся» 25.
Еще раз автор подчеркнул необходимость для христианина обращения к Священному Писанию, чтобы не уклониться от истинной веры. После этого помещены цитаты о том, что при этом важно верное истолкование прочитанного, поднят вопрос о ересях и сделано следующее заключение: «Мнози иже сказуют криво Божественное Писание к своему разуму сия приводяще и по своей похоти, разсуждающе на едином многажды слове сокровеном утверждаются, а откровеное Писание святыми отцы оставляюще» 26.
В Предисловии Т. Лысенин достаточно подробно рассмотрел вопрос об уклонении в ересь при неверном истолковании Священного Писания, представив подборку цитат из авторитетных для православного человека текстов. Разумеется, автора можно охарактеризовать в качестве начетчика в традиционном для человека Древней Руси значении. Приведенные цитаты обязательно обозначены в качестве таковых и указан (или на поле, или во вводной и заключительной фразах) исходный текст. В авторских комментариях, которые, как ранее отмечено, чаще всего представлены в форме обращения к адресату, проступает личность человека Нового времени. Это относится к его уверенности в способности понять Священное Писание, правильно его истолковать, способствуя решению сложных вопросов богословия, прояснить для себя и читателей суть вероучения – «правду Божию».
Заключительная часть Предисловия – еще более яркое свидетельство об авторе как человеке Нового времени, продолжившем традиции книжников Древней Руси. В качестве «Молитвы» Т. Лысенин поместил свое обращение к Богу с личной просьбой о помощи в осмыслении собранного материала. Она не очень велика по объему, поэтому приведем ее полностью: «Но, о Господи, Боже наш многомилостиве, творче небеси и земли! Припадаю твоей благости, прости ми и отпусти безчисленая моя согрешения, помози и благослови не-изследованным милосердием твоим, яже нужная и полезная ко спасению и ко утвержению правоверия просящему другу собрати, правду твою проповедати, юже ты святыми твоими предал еси Церкви святей своей. Неправду же противных и лукавыя и хулныя речи Писанием твоим обличити» 27.
В этом тексте Т. Лысенин сумел подвести определенный итог своим рассуждениям в Предисловии, обозначив цели создания Книги в обращении напрямую к Богу. Он считал, что собрал тексты нужные и полезные для спасения и утверждения истинной веры, которые будут способствовать проповеди «правды Божией» и обличению «противных», поэтому обратился с «Молитвой» к Богу. После этого поместил цитаты из Священного Писания с характеристикой переживаемого времени и рекомендациями остерегаться лжеучителей, чтобы не уклониться от истинного вероучения 28.
Книгу открывает аннотация, в которой представлено авторское восприятие ее содержания: «Сказание вкратце о милосердии Божии и о проповеди святых апостол и яко не подобает соблажнятися, видя многих лжеучителей и ереси, но токмо веровати по Писанию святых отец» 29. В этом тексте акцент сделан на основных проблемах, о которых адресат уже был проинформирован в Предисловии и «Молитве», обращенной к Богу, а здесь представлена четкая формулировка сути содержания Книги. В 62-х главах он собрал материал, в котором, по его мнению, изложено истинное вероучение. Представление о нем должно помочь христианину спастись в современном мире. В каждой главе обязательно уделяется внимание ха- рактеристике переживаемого времени, которое воспринималось автором исключительно в эсхатологических категориях.
Анализ Предисловия к «Книге о правой вере» позволил сделать вывод о том, что ее автором был Тимофей Матвеев Лысенин. Об этом свидетельствует и постоянное обращение автора к адресату в основном тексте при введении темы или при ее завершении. Текст «Книги о правой вере» свидетельствует о том, что Тимофей Лысенин был не только начетчиком, но и археографом, книжником и ярким представителем плеяды идеологов религиознообщественного движения, уверенных в своем праве толковать Священные тексты, проясняя истину.
Разумеется, основным приемом изложения аргументов в пользу защищаемой точки зрения по обсуждаемому вопросу, относящемуся к области богословия, богослужебной практики, бытового поведения, старообрядцу служили фрагменты текстов из Священного Писания и святоотеческого предания. Он продолжил традиции книжника Древней Руси в условиях Нового времени, что проявлялось в сопровождении каждой приведенной цитаты указанием на источник, который должен был быть авторитетным для оппонентов – представителей официальной Церкви и внутри старообрядчества.
В рукописи Тих. 529 представлен текст своеобразного религиозного учебника, в котором изложены особенности вероучения, богослужебной и обрядовой практики дьяконова согласия, а также бытового поведения членов общины. Основные проблемы, освещаемые в «Книге о правой вере», были обозначены в Предисловии. Создается впечатление, что автор написал его в качестве сопроводительного послания к адресату, который должен был оценить и одобрить текст Книги. По-видимому, ему важна была поддержка этого уважаемого человека, с которым его связывала многолетняя дружба. Возможно, Т. Лысенин считал, что это позволит ему быть еще более уверенным в своем праве обращаться к толкованию Святого Писания с целью прояснить для единоверцев понятие о Боге, об истинной вере и способах спасения в переживаемые человечеством «последние» времена. Анализ текста Предисловия дает возможность сделать вывод о ценности этого памятника письменности в качестве источника для изучения творческого наследия идеолога дьяконова согласия.