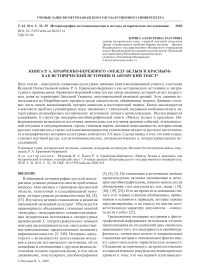Книга Р. А. Кравченко-Бережного "Между белым и красным" как исторический источник и авторский текст
Автор: Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - определить социально-культурное значение книги воспоминаний ученого, участника Великой Отечественной войны Р. А. Кравченко-Бережного как исторического источника и литературного произведения. Кравченко-Бережной известен как автор дневника, который он вел подростком, живя на территории Западной Украины, оккупированной немецкой армией. Этот дневник использовался на Нюрнбергском процессе среди свидетельств, обвиняющих нацизм. Дневник составил часть книги воспоминаний, которая написана в постсоветский период. Книга анализируется в контексте проблем гуманитарных наук, связанных с типологией, видовыми особенностями и литературным разнообразием исторических источников личного происхождения. Рассматриваются содержание и структура мемуарно-автобиографической книги «Между белым и красным». Информационные возможности источника значительны для изучения хроники событий, этносоциальной ситуации в оккупированном городе, геноцида евреев, военной повседневности, истории семьи русских эмигрантов, а также для понимания процессов становления личности русского интеллигента в специфических историко-культурных контекстах XX века. Сделан вывод о том, что книга представляет научный ресурс для источниковедческих, антропологических и литературоведческих исследований.
Исторический источник, дневник, мемуарная литература, великая отечественная война, оккупация, р. а. кравченко-бережной
Короткий адрес: https://sciup.org/147227291
IDR: 147227291 | УДК: 82-94 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.514
Текст научной статьи Книга Р. А. Кравченко-Бережного "Между белым и красным" как исторический источник и авторский текст
В обширной историографии русской мемуаристики успешно решаются многие проблемные вопросы. Они связаны с границами предметной области, типологией и классификацией мемуаров, литературными разновидностями [6], [8], [15]. Изучается история становления и развития письменной мемуарной культуры1. Обсуждается правомерность объединения с помощью понятий «мемуары», «мемуаристика» слишком разнородных исторических источников и литературных произведений. С литературоведческих позиций мемуары рассматриваются как «нехудожественное повествование, предполагающее доминанту нефикциональности» [2: 348]. Историки дискутируют о возможностях использования мемуаров в качестве исторического источника, об их специфике и соотношении с другими видами источников личного происхождения, в том числе дневниками, эпистолярием, автобиографиями
[3], [4], [5]. По отношению к источникам личного происхождения, включая дневниковые и мемуарно-автобиографические, широко используется обозначение «эго-документы» (см., напр.: [14], [16], [19], [21]). В то же время есть основания считать этот термин слишком обобщенным, применимым в основном к периодам, которые хорошо документированы, и по смыслу не вполне соответствующим характеру документов – «свидетельств о себе» [22].
Традиционное недоверие историков к фактографической информации источников личного происхождения на сегодняшний день сменилось пониманием того, что мемуарность и автобиографичность, личностное начало и эмоциональное отношение авторов к описываемым фактам имеют самостоятельную эвристическую ценность. Сближение исторического, антропологического и социологического ракурсов изучения прошлого привело к тому, что «на первый план выводит- ся не столько запечатление исторических событий, сколько их ощущение» [1: 7], наблюдается «дрейф исследовательского интереса историка от изучения событий к изучению состояний» [13: 7]. Источники личного происхождения, отражая «жизненный мир» и социальные связи автора, способствуют изучению рецепции исторических событий, социальной истории, истории повседневности, ментальностей эмоций и многих других областей гуманитарного знания, в которых они успешно используются.
Изучение мемуарной литературы получило новый импульс благодаря бурному развитию memory studies (см., напр.: [11], [12], [17], [18], [20]). Поскольку память ограничена социальными рамками, «изучение мемуаров позволяет проиллюстрировать смену социальных стереотипов, идеологий и общественных настроений на примере сознания всего лишь одного индивида» [10: 112]. Социально-культурное значение мемуарных текстов не сводится к политическим и познавательным функциям. Благодаря им осуществляются процессы социальной идентификации и происходит осмысление прошлого. Потребность помнить, по замечанию П. Нора, «превращает каждого в историка самого себя» [9].
На этих основаниях мы обратимся к книге участника Великой Отечественной войны, ученого Кольского научного центра РАН Р. А. Кравченко-Бережного.
Роман Александрович Кравченко-Бережной (04.06.1926, г. Кременец, Польша – 20.05.2011, г. Апатиты, Мурманская область) – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. Физик по образованию (окончил в 1955 году Львовский университет), кандидат физико-математических наук (1961), он известен в научном академическом сообществе Кольского научного центра РАН (ФИЦ КНЦ РАН) как специалист в области физических методов исследования вещества, организатор лаборатории физических методов исследования минералов. Этой лабораторией он заведовал до 1988 года, после чего перешел на работу в Центр гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН. Деятельность Кравченко-Бережного как главного специалиста была связана с международным сотрудничеством2. В частности, Роман Александрович был занят переводческой работой и курировал в этом отношении научную молодежь, поскольку знал шесть языков. Переводчиком он был еще в 1945–1950 годах – в зоне советской оккупации Германии.
Отец Романа Александровича имел дворянское происхождение, воевал в Первую мировую войну, получил офицерское звание, с войны вернулся инвалидом. В Польше родители будущего мемуариста, по его замечанию, оказались «в итоге лихолетья Гражданской войны. Когда кочевали и люди, и границы государств» [7: 9]. В 1930-х годах семья жила в Варшаве, где Роман и его старший брат Юрий учились в русской гимназии. Затем они возвратились в Кременец3, где жили ранее. В сентябре 1939 года территория вошла в состав СССР. В июле 1941 года город был оккупирован немцами – до середины марта 1944 года. Все это время семья находилась в Кременце. Оккупационные власти быстро закрыли школу, Роману пришлось начать работать, заниматься самообразованием и оберегаться от принудительной трудовой депортации. Одновременно юноша вел дневниковые записи о том, что происходило в городе, о сообщениях с фронта, о своих размышлениях и переживаниях. Именно этот дневник не только лег в основу будущих мемуарных книг Р. А. Кравченко-Бережного, но стал по существу частью европейской истории благодаря значению описанных в нем событий и роли, которую он сыграл в качестве свидетельства преступлений нацизма.
С приближением советских войск Роман Александрович ушел в действующую армию. Он участвовал в боях в Прибалтике, Польше, Германии, а по окончании войны несколько лет служил военным переводчиком. Пребывание на оккупированной территории отрицательно сказалось на его биографии. В 1949 году его отозвали в Куйбышев, там допрашивали по подозрению в контактах с немцами, после чего отправили на восстановление шахт Донбасса. Окончив вечернюю школу и демобилизовавшись, Р. А. Кравченко-Бережной смог получить университетское образование. Его дальнейший путь определила встреча с учеными-геологами Кольского филиала Академии наук А. В. Сидоренко и И. В. Бельковым, которые в 1955 году на всесоюзном совещании во Львове уговорили перспективного выпускника уехать на три года работать на Север. На склоне лет автор воспоминаний заметит: «Три года все еще продолжаются, уже в двадцать первом веке» [7: 356].
ДНЕВНИК
История дневника кременецкого юноши, ушедшего на фронт в 1944 году, приобрела широкую известность. Роман Александрович изложил ее в воспоминаниях, рассказывал журналистам. Она включается в биографии автора, в том числе размещенные на различных интернет-сайтах, и в аннотации книг. Дневник создавался с июля 1941 по январь 1944 года. Перед бегством на фронт Роман собирался его закопать, но в итоге спрятал на чердаке в родительском доме. С фронта, осознав, что его могут убить, написал о дневнике отцу, а тот решил передать этот документ Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию зверств немецко-фашистских окку-пантов4. Так дневник оказался в Москве, а затем в числе материалов Нюрнбергского процесса. Позже отец передал его в историко-краеведческий музей города Кременца.
В 1958 году кто-то из литераторов заинтересовался копией дневника, найденной в Центральном государственном архиве5. По свидетельству мемуариста, был объявлен всесоюзный розыск «Ромки Кравченко из Кременца». Его отыскали в заполярных Апатитах, из Кременца запросили подлинник дневника, и Роман Александрович занимался в московском архиве сверкой текста оригинала с машинописной копией. В результате дневник вернулся к автору в виде подаренного ему экземпляра копии. Он и лег в основу книги [7: 39–42]. Обстоятельства создания дневника, его использование в числе свидетельства государственного обвинения на процессе, который стал одним из главных событий ХХ века, сделало Р. А. Кравченко-Бережного исторической личностью, свидетельствующей против преступлений нацизма.
Анализ информационного слоя дневника представляется темой почти неисчерпаемой. Во-первых, юный «летописец» фиксировал все, что происходило в Кременце с приходом немцев, начиная с того времени, когда войска только приближались к городу, и до последних дней режима. Таким образом, выстраивалась хроника событий:
«Утром пошел в город. По дороге видел, как воздвигали арку: ES LEBE DIE UNBESIEGBARE DEUTSCHE ARMEE! – Да здравствует непобедимая германская армия! Такую же арку возводили и для встречи большевиков и, возможно, те же энергичные “встречиватели”» (13 июля 1941 года) [7: 44];
«Стрельба слышна, но редко. Был сегодня за городом, слышал взрывы. По-видимому, бомбили Дубно. По дороге насчитал 10 танкеток и танков. Один совершенно сгорел. На полях стоит масса орудий. Очень неприятное, угнетающее зрелище. Вчера был на речке, купался. В той стороне тоже много танков. Все они в плачевном виде. Население об этом позаботилось» (30–31 июля 1941 года) [7: 57].
Во-вторых, записи содержат многочисленные социально-бытовые подробности, относящиеся к истории повседневности военного времени. Автор отмечал не только действия оккупационных властей, но и изменения в экономическом положении горожан, настроения жителей, поведение разных категорий населения Кременца и оккупантов. При этом обращал особое внимание на этнонационалистические проявления, абсолютно им не приемлемые:
«Стоял в очереди за хлебом. Хлеб получить почти невозможно, распорядители – “милиция” – пропускают первым делом своих знакомых, потом нахалов, которые лезут вне очереди, потом только очередь. В очереди стоит еврей, он близко к заветной двери с выбитыми стеклами. Подходит “милиционер” и ставит его в конец очереди. Проходит полчаса, и картина повторяется» [7: 53–54].
В повседневной жизни бытовые обстоятельства военного времени и унижающие человека режимные условия соединяются с обычными занятиями кременецкого школьника из культурной семьи:
«В городе новое распоряжение: нормируется выдача продуктов. Будем получать по 400 граммов хлеба, евреи – по 300. Кроме того, будут выдавать другие продукты <…>. Весь день сижу дома, читаю Твена. У него есть очень хорошие сатирические рассказы. Так зачитываюсь, что болят глаза» [7: 58].
В-третьих, на основе персонального опыта и наблюдений в дневнике емко описана этносоциальная ситуация в оккупированном городе польско-украинского пограничья начала 1940-х годов. В сложные отношения неприязни, сочувствия, сотрудничества, конфликтов, угнетения и иные включались захватчики и оккупированные, администрация и население, военные и гражданские, поляки, украинцы, евреи, русские – «советские» и «несоветские». Ситуацию наблюдает и осмысливает школьник из интеллигентной семьи русских эмигрантов:
«Сегодня начались занятия. Конечно, директор выступил с подходящей речью. <…>. Кроме того, как и следовало ожидать, запретил ученикам говорить где бы то ни было не по-украински. <…>. Не принят ни один поляк. Мне, по-видимому, помогла моя украинская фамилия. Хотя сегодня они разочаровались. На первом уроке записывали национальность и вероисповедание. Я записан русским, единственный в классе...» [7: 75].
В-четвертых (это оказалось главным), дневник отразил сущность Второй мировой войны как противостояния нацизму – в изложении событий, связанных с геноцидом евреев. Сюжет поэтапного истребления евреев в городе является лейтмотивом дневника, если рассматривать его как целое. Кульминационное, самое запоминающееся, трагическое и эмоционально описанное событие – уничтожение еврейского гетто в Кременце в августе 1942 года. Р. А. Кравченко-Бережной был очевидцем этой катастрофы, в которой погибла и его близкая подруга школьных лет Фрида [7: 131–145]. Страницы дневника, повествующие о «кровавом августе», являются самыми трагическими в событийном плане и самыми эмоциональными по характеру изложения.
В-пятых, автор записывал любую информацию, которая была доступна, о положении на фронтах, позиции воюющих европейских стран, соотношении политических сил в Европе и мире и т. п. Дневник дает ясное представление об информационной ситуации в городе. Неполнота и недостоверность сведений очень волновали пишущего и были предметом его постоянной рефлексии. О состоянии дел на фронте можно было лишь судить по собственным наблюдениям, делать предположения и размышлять по их поводу:
«Бои идут, по-видимому, в районе Шумска, стрельба доносится оттуда. Кроме того, оттуда привезли нескольких крестьян, раненных снарядами. Но против этого говорит совершенное спокойствие в городе. Немцы устраиваются здесь надолго. Свозят мебель с баз, реквизируют нужные им вещи у населения. Можно заметить в моих записках самые противоречивые факты: то они уезжают, то устраиваются на “зимние квартиры”. Я сам, ей-богу, ни черта в этом не понимаю. Записываю то, что есть, и в данное время не берусь это комментировать: запутаюсь и не вылезу. Пусть разбирается будущее» [7: 59].
Данные черпались также из сообщений официальной прессы, которые надо было переосмысливать, распоряжений местных властей и в значительной степени – из городских слухов:
«Вообще замечаю, что как только исчезает радио и нельзя ничего ни подтвердить, ни опровергнуть, появляются всякие сногсшибательные новости. Может быть, люди себя так утешают. Пустит кто-нибудь что-нибудь в этом роде, на следующий день ему приносят новость, в которой он никак не может признать свое авторство, он верит ей и этим утешается...» [7: 70] .
Запрет на использование радио был типичным для военного времени, его нарушение каралось вплоть до расстрела. К этой теме автор обращался не раз, отмечая «счастливые» и «несчастливые» моменты, когда радио работало или, напротив, запрещалось (братья Кравченко закопали детали приемника и при первой возможности выкопали их).
В-шестых, в дневнике четко выражены политическая и нравственная позиции автора, безоговорочно сочувствующего Советскому Союзу, впитавшего советскую идеологию, настроенного резко критически по отношению к любому национализму и ксенофобии. Этим позициям соответствуют надежды на скорую победу советской армии, резкие неприязненные выпады против временной местной украинской администрации, муниципальной и школьной, боль за еврейское население, отвращение к юдофобии, «украино-фильству» и т. п. Записи изобилуют прямыми оценочными репликами, которые могли стоить подростку жизни, попади дневник в руки окку- пантов или украинских националистов. Высказывания Романа Кравченко и о гитлеровцах, и о «самостийной» власти отличаются ироничностью:
«Поздравляю вас, граждане, с наступлением осени, так сказать, и одновременно с началом нового, 1941/42, учебного года, который у нас, осчастливленных пребыванием под немецким сапогом, запаздывает» [7: 67]; «Бьет ключом государственная жизнь. Партии появились. Грызутся. Есть “бандеровцы”, есть и “мельников-цы”. Одни повесят объявление, другие бегают и срывают. Сразу видно, что имеется какое-то государство, или намек [7: 69] .
Наконец, в дневнике присутствуют размышления об истории, свидетельствующие об уровне рефлексии автора:
«11 июля 1941 г. Меня волнует много мыслей. Часто, лежа в постели, я подолгу не могу заснуть, все думаю. Да. Я имею счастье или несчастье жить в такое время, когда события не идут, а наступают одно за другим с молниеносной скоростью. Мы переживаем эпоху Наполеона, в гораздо большем масштабе…» [7: 43] .
Далеко не полный перечень информационных возможностей дневника показывает перспективность его внимательного чтения для исследований, нацеленных как на реконструкцию фактов, так и на «человека помнящего».
Опубликованная в 2008 году книга Р. А. Кравченко-Бережного «Между белым и красным» – итоговая версия воспоминаний [7] (рис. 2). Ей предшествовали первое издание, десятилетием ранее, и англоязычная публикация в США, подготовленная по инициативе шведского литератора и историка Ларса Гюлленхааля6. Переработка касалась структуры, дополнений и отдельных вариаций текста, изменений названия.
Примерно половину объема книги занимает дневник, который публикуется с купюрами, но без вмешательства в текст оригинала. В книге дневник ретроспективно обработан, его фрагменты разбиваются включениями: дополняющими и уточняющими комментариями, которые поясняют исторические или локальные детали. Комментарии исправляют информацию, которая «из будущего» представляется исторически ошибочной, и еще чаще – изменяют взгляд на события в соответствии с утвердившейся позже исторической концепцией. Из записи, датированной 5 декабря 1941 года:
«Вчера прочитал в газете заметку, что-то вроде “Событие, не встречавшееся с начала войны”. В ней с возмущением сообщается, что, когда доблестная германская армия вступила в Ростов, на нее с тыла напало вооруженное мирное население. В результате этого предательского нападения немецкие части вынуждены были оставить Ростов».
Следует комментарий:
«Действительно, “событие, не встречавшееся с начала войны”: первая крупная победа, первый освобожденный большой город, первая угроза окружения немецких дивизий. Ничего этого мы тогда не знали: гитлеровская пропаганда свела все к “предательскому нападению вооруженного мирного населения”; таков был первый опыт объяснения поражений вермахта на Востоке» [7: 85–86].
Иногда дневниковые записи дополняются информацией, которую нельзя было сообщать по соображениям безопасности (например, о тайном прослушивании радиопередач). Однако осознание риска явно не сдерживало автора, иначе и не было бы самого дневника, наполненного крайне резкими антифашистскими и антинационали-стическими высказываниями, выпадами против конкретных политиков и представителей местной власти.
Точку зрения юного автора дневника автор книги оценивает с высоты своего опыта и знаний. Дневниковые сведения, опирающиеся на дозированную и недостоверную информацию, он соотносит с документально обоснованными. Свидетельства непосредственного наблюдателя сравнивает с данными, которые предоставила «история» за последующие десятилетия. Рассуждения и безапелляционные оценки, напитанные советской идеологией, корректирует с иных, причем отнюдь не антисоветских, идейных позиций. Многие фрагменты, которые разбивают и дополняют текст дневника, являются самостоятельными новеллами. Они включаются по ассоциации с изложенными фактами, обстоятельствами, датами. Так, фрагмент «Трудовой дебют» посвящен работе Романа на гребешечной фабрике после закрытия гимназии [7: 97–101]. За дневниковой записью о боях под Сталинградом следует главка «1975» – о посещении Волгограда и разговоре с молодым немцем, в котором Роман Александрович безошибочно распознал нациста [7: 185–187].
Р. А. Кравченко-Бережной отказывался называть свое сочинение «мемуарами», определив жанр книги как «стоп-кадры», это указано в заглавиях обеих русскоязычных версий и в аннотациях. Цельность повествования обеспечивается тем, что, по авторскому замыслу, оно представляет автобиографию человека, прожившего «свой ХХ век». Однако это не собственно биография как последовательное жизнеописание, а картины прошлого. Этапы жизни присутствуют в структуре книги, но даже во второй ее половине (после «дневниковой» части) последовательность выдерживается весьма условно.
В соответствии с автобиографическим каноном дневнику предпосланы главы, в которых рассказано о детстве, родителях, гимназии, описан Кременец середины 1930-х годов. Несколько страниц посвящено времени с осени 1939 до июня 1941 года: от присоединения Западной Украины к СССР до начала Великой Отечественной войны. Военное время охватывается большей частью дневником, а затем фронтовыми историями. Повествование о воинской службе и послевоенной жизни также выстроено по принципу соединения «картин прошлого».
За рамками дневниковой части книга не лишается значения исторического источника. Отдельные «стоп-кадры» посвящены военной повседневности: «Как мы жили» [7: 253–257], «Меллентин» [7: 275–278], «Сапоги» [7: 288–293] и другие. Вместе с тем основное внимание уделено не рутинному и повторяющемуся, а тому, что имеет статус «события» и достойно отдельной новеллы. Не все эпизоды столь событийны, как, например, история с угнанным российским самолетом, который Роман Александрович помог летчикам посадить в Швеции благодаря знанию языка [7: 389–401]. Событием для отдельного человека является то, что изменило биографическую траекторию, повлияло на отношение к людям, подтвердило или опровергло жизненные установки и т. д. О чем бы ни шла речь, Р. А. Кравченко-Бережной постоянно возвращается к теме войны, своей военной службы, опыту тех лет. В рассказах о послевоенной жизни какая-нибудь внешняя деталь, ассоциация, аналогия обращает автора к тому, что в годы «конца света» послужило уроком, выручило впоследствии в мирной жизни или просто интересно для исторических сопоставлений. Что касается субъективной авторской оптики, то к ней можно отнести интроспективный взгляд на то, как и эпохальные, и «микроисторические» обстоятельства способствуют личностному развитию человека. Они во многом меняют его мировоззрение и мировосприятие, но в чем-то не могут изменить ценностные установки, сформированные в семье, в детстве.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве источника исторической информации книга Р. А. Кравченко-Бережного содержит ценные данные о жизни, быте, этносоциальной ситуации, настроениях населения в городах оккупированной немцами Западной Украины в 1941–1944 годах, о геноциде еврейского народа, о «фронтовых солдатских буднях» 1944–1945 годов, о судьбах отдельных людей и семей. Специалистам в области исторического источниковедения эта книга задает много вопросов, касающихся сложных взаимосвязей внутри области, определяемой как «источники личного проис- хождения» или «эго-документы», которая включает разновидности мемуаров, автобиографии, дневники, эпистолярий.
Благодаря литературным способностям и рефлексии автора в двух его ипостасях – юного автора дневника и мемуариста, обладающего большим жизненным опытом, глубине его размышлений и самонаблюдений, этот источник чрезвычайно интересен в социально-антропологическом отношении. Думающему читателю он предоставляет возможность научиться познавать себя и понимать мысли и чувства «других» – представителей поколения «жертв-победителей».
С литературоведческой точки зрения книга интересна в качестве феномена мемуаристики, в котором преодолевается видовая (текстового источника как минимум двух видов) и жанровая (литературного автобиографического, мемуарного произведения) заданность за счет авторского замысла, особого построения и индивидуального стиля.
Можно заключить, что среди мемуаров постсоветского периода книга Р. А. Кравченко-Бережного «Между белым и красным» занимает место, достойное не только читательского внимания, но и разностороннего научного анализа.
* Статья выполнена в рамках темы государственного задания № 0226-2019-0066 «Социокультурное и научнотехническое развитие северо-западной части Арктической зоны РФ в XIX–XX вв.: исторический и антропологический ракурсы».
Список литературы Книга Р. А. Кравченко-Бережного "Между белым и красным" как исторический источник и авторский текст
- Ауст М., Вульпиус Р., Миллер А. Предисловие. Роль трансферов в формировании образа и функционировании Российской империи (1700-1917) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700-1917) / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 5-13.
- Боровикова М. В., Гузаиров Т. Т., Лейбов Р. Г., Сморжевских-Смирнова М. А., Фрайман И. Д., Фрайман Т. Н. Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы // "Цепь непрерывного предания": Сборник памяти А. Г. Тартаковского / Сост. В. А. Мильчина, А. Л. Юрганов. М.: Издательский центр Российского гос. гуманитарного ун-та, 2004. С. 346-361 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://imwerden.de/pdf/tsep_nepreryvnogo_ predaniya_sbornik_pamyati_tartakovskogo_2004ocr.pdf (дата обращения 12.02.2020).
- Галиуллина Д. М. Проблема изучения мемуаров в отечественной исторической мысли // Ученые записки Казанского государственного университета. 2006. Т. 148. Кн. 4. С. 36-45.
- Георгиева Н. Г. Мемуары как феномен культуры и как исторический источник // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. 2012. № 1. С. 126-138.
- Георгиева Н. Г. Классификация и полифункциональность исторических источников // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. 2016. № 1. С. 7-19.