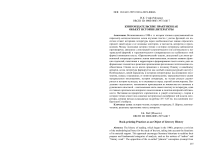Книгоиздательские практики как объект истории литературы
Автор: Стаф Ирина Карловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Филология плюс…
Статья в выпуске: 2 (49), 2019 года.
Бесплатный доступ
Возникновение в 1980-х гг. истории чтения и предложенный ею пересмотр методологических основ изучения текста с учетом функций его носителя ставит историков литературы перед необходимостью заново определить предмет своей науки и ее основные категории, в частности, авторства и произведения. Между подходами истории чтения и истории литературы наблюдается противоречие, связанное с оппозицией «платонического» (не соотносимого с материальной формой) и «прагматического» (опирающегося на особенности этой формы) понимания текста. «Прагматический» анализ, актуальный для эпохи рукописной литературы и ранних этапов книгопечатания, позволяет выявить функции издателей, печатников и корректоров в формировании текста книги, роль ее формальных элементов в рецепции произведения различными читательскими сообществами. Однако он не всегда применим к позднему Новому и новейшему времени, когда литература формируется как особый социокультурный институт. Необходимость новой парадигмы в историко-литературных исследованиях несомненна, однако, отказавшись от понятия произведения, трансцендентного своим материальным воплощениям, история литературы, не только рискует раствориться в истории культуры, но и оказывается перед угрозой антиисторизма. Выделение «идеального», неизменного произведения из множества его книжных и рукописных ипостасей - неотъемлемая часть самого института литературы, одна из главных предпосылок авторского самосознания и понятия авторской собственности. Настаивая на приоритете «прагматики» в ущерб «платонизму», теория и история чтения ставит под сомнение историческое своеобразие той модели литературы, которая начала складываться на рубеже XV-XVI вв. под влиянием изобретения Гутенберга.
История чтения, история литературы, р. шартье, книгопечатание, рецепция, прагматика текста, авторство
Короткий адрес: https://sciup.org/149127159
IDR: 149127159 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00046
Текст научной статьи Книгоиздательские практики как объект истории литературы
В последние десятилетия история книги выдвинулась на одно из центральных мест среди социальных дисциплин. Материальные характеристики текстов - формат, шрифт, тип издания, иллюстрации и т.д. - предстали важнейшим источником данных о способах их презентации и рецепции, иными словами, о социокультурных параметрах, которыми определяются читательские практики в различных социальных стратах конкретной исторической эпохи.
Перелом в понимании исторических функций книги, во многом обусловленный реакцией на linguistic turn середины XX в., приходится на 1980-е гг. (одним из первых его свидетельств стала статья Роберта Дарн-тона «Что такое история книги?» [Darnton 1982]). Проблематизация роли текста в историческом анализе привела не только к пересмотру роли книги (и, шире, письменного/печатного слова) в истории культуры, но и к формированию нового направления историко-культурных исследований - истории чтения, ставившей своей целью изучение параметров, которые обусловливают рецепцию текстов читательскими сообществами. Отправной точкой этого процесса можно считать выход четырехтомной «Истории французского книгоиздания» под редакцией А.-Ж. Мартена и Р. Шартье [Histoire 1982-1986], развивающей и уточняющей многие положения знаменитого «Возникновения книги» Л. Февра и А.-Ж. Мартена [Febvre, Martin 1958].
Теоретические принципы истории чтения были сформулированы в предисловии к вышедшему в 1995 г. обобщающему коллективному труду под редакцией Р. Шартье и Г. Кавалло [Storia... 1995]: читатели в любой исторический период имеют дело не с абстрактными текстами, но с материальными объектами различных видов (книгами, журналами, газетами, лубками, рекламными афишами и пр.), свойства которых во многом задают и обусловливают их восприятие. «В противовес чисто семантическому определению текста - господствовавшему не только в структуралистской критике во всех ее вариантах, но и в теориях литературы, уделявших большее внимание воссозданию рецепции произведения, - следует всегда учитывать, что любые формы производят смысл и что при изменении носителей, делающих текст доступным для чтения, меняется и значение, и статус этого текста» [Storia... 1995, VI]. Такой подход, перекликающийся с идеями П. Бурдье, М. де Серто, Л. Марена, предполагает, что реконструкция тех или иных читательских практик требует анализа формальных характеристик самих текстов, т.е. печатных или рукописных книг.
Мысль о том, что текст всегда материален, его форма оказывает прямое и непосредственное воздействие на его смысл, а значит «новые читатели создают новые тексты, новые значения которых напрямую зависят от их новых форм», была впервые сформулирована в 1985 г. новозеландским книговедом Д.Ф. Маккензи [McKenzie 1985,14], работы которого послужили отправной точкой для преобразования библиографии и книговедения из дескриптивных и «прикладных» областей знания в «социологию текстов». Одним из главных результатов нового подхода стала демонстрация того факта, что для текстов, опубликованных в Европе до XVIII в., как правило, оказываются нерелевантными категории, в которых критика традиционно описывает литературу (автор, произведение, копирайт и пр.). Смысл каждой из этих категорий нуждается в корректировке с учетом исторического, социального и культурного контекста, отражением которого выступают модальности письменных или печатных репрезентаций слова.
Так, одно из основных понятий истории книги и истории литературы -авторство - не только исторически изменчиво, но и для многих периодов не определено. М. Фуко в своей лекции «Что такое автор?» [Foucault 1969], формулируя понятие «авторской функции» (fonction-auteur) с тремя ее составляющими - идеей литературной собственности, преследованием по закону за ее присвоение, а также аутентификацией письма через конкретного субъекта, понимаемого как источник произведения, - связывает появление литературного авторства в XVIII в. с переносом на художественные тексты той модели идентификации, какая прежде требовалась для текстов научных. А. Вьяла в книге «Рождение писателя» [Viala 1985] возводит формирование этого понятия к эпохе классицизма с ее литературными кружками и салонами, где утверждались и оспаривались культурные авторитеты. Напротив, Р. Шартье в статье «Автор в системе книгопечатания» [Chartier 1992] усматривает признаки авторской функции уже в манускриптах Петрарки и связывает ее развитие с «постепенным переносом на тексты на народном языке того особого принципа обозначения и отбора, который долгое время служил характеристикой только произведений, принадлежащих кому-либо из древних auctoritas и превратившихся в источник бесконечных цитат, глосс и комментариев» [Шартье 2006, 70]. А в одном из недавних обобщающих трудов по данной проблеме [Diu, Pari- net 2013] личное и социальное осознание авторства прямо связывается с изобретением Гутенберга и его влиянием на культуру раннего Ренессанса.
Классическая оппозиция книги и произведения - или произведения и его текстов - также предстает во многом условной. Если англо-американская «новая библиография» (Vew Bibliography) первой половины XX в., сложившаяся главным образом вокруг издания шекспировского наследия, изучала разные издания и экземпляры одного и того же произведения с целью восстановить свободный от публикационных искажений текст (ideal copy text), максимально отвечающий авторскому замыслу; если история литературы традиционно оперирует именно такими «идеальными конструктами», воссозданными критикой текста, основу которой заложили еще ранние итальянские гуманисты, - то для истории чтения эти понятия неразделимы. Смысл произведения обретает опору в том объекте, который делает его доступным для читателя, будь то печатная книга, средневековый манускрипт или глянцевый журнал. В каждый исторический момент этот смысл складывается заново под воздействием трех равноправных факторов: авторской интенции, читательских практик конкретной среды или группы и, наконец, материальных параметров носителя текста. Как писал в конце XVII в. автор первого учебника по типографскому искусству на народном языке, испанский печатник Альфонсо Паредес, «книгу я уподоблю сотворению человека, каковой имеет разумную душу, с коей его создал Господь... и во всемогуществе своем слепил Он его изящное, прекрасное, гармоничное тело... Совершенная книга состоит в добром учении, представленном подобающим образом благодаря печатнику и корректору, и это я называю душой книги; а добрую печать на станке, чистую и тщательную, могу я сравнить с грациозным и стройным телом [человека]» [цит. по: Chartier 2014, 10-11]. Иными словами, для Паредеса не существует разделения на «содержание» произведения, всегда тождественное самому себе и не зависящее от материальной формы, и случайные вариации текста (accidentals), возникающие в результате деятельности печатника.
Само это «содержание» на ранних этапах бытования печатной книги нередко представляло собой результат коллективной деятельности авторов, либрариев, печатников и корректоров. Так, ведущий парижский либрарий рубежа XV-XVI вв. Антуан Верар, специализировавшийся на литературе на народном языке, обычно подвергал выпускаемые им тексты значительной переработке, выступая в роли «автора» и предпосылая своим книгам авторские прологи [Winn 1997]. Изданная им французская версия «Декамерона» (осуществленная ок. 1414 г. гуманистом Лораном де Премьефе) отличалась как от оригинального текста Боккаччо, так и от достаточно точного переложения переводчика. Книга настолько не похожа на перевод Лорана, что некоторые историки даже предлагают считать ее самостоятельной французской версией сборника [Capello 2008]. Верар убирает описания в обрамлении, любые упоминания о времяпрепровождении рассказчиков, введения к каждому дню, а также заменяет несколько новелл и снабжает каждый рассказ конечной моралью [Viet 2012, 288-
289]. Авторский пролог к «Декамерону» и обрамляющее повествование слиты воедино, причем автор в тексте играет роль ученого наблюдателя и, как следствие, доминирует в структуре произведения, которое, в свою очередь, приобретает характер исторической правды, заключающей в себе дидактический смысл. По-видимому правка парижского либрария имела целью повысить культурный статус текста и подчеркнуть авторитет его создателя. Именно в таком виде «Сто новелл», или «Книга Камерона», как она именуется в колофоне вераровского издания, была известна во Франции вплоть до середины XVI столетия, когда вышел новый перевод Антуана Ле Масона.
Еще одним примером воздействия типографских форм на смысл произведения может служить пунктуация, за которую во Франции, Англии, Испании вплоть до начала XVIII в. отвечали отнюдь не авторы, но корректоры и печатники. В Испании Золотого века, как показал известный специалист по творчеству Сервантеса Ф. Рико, печатники вообще не использовали в работе авторскую рукопись: она считалась «черновиком» (е/ borrador), который отдавали профессиональному переписчику, и эта чистовая копия (copia еп limpio) направлялась в Королевский совет, чтобы получить одобрение цензоров, разрешение на печать и королевскую привилегию [Rico 2005, 45 sq.].
Пересмотр категориального аппарата и методологических принципов анализа текстов и их носителей, предложенный историей чтения, потребовал как сформулировать по-новому отношения между историей книги и другими научными направлениями, в частности, историей (и теорией) литературы, так и пересмотреть на новых основаниях сам предмет этих дисциплин.
Р. Шартье в статье «История и литература» предложил следующее определение этой науки: «история литературы есть история различных модальностей апроприации текстов. Она должна учитывать, что “мир текста”, говоря словами Рикера, есть мир материальных объектов и пер-формаций, чьи механизмы и правила задают возможности и границы производства смысла. Параллельно она должна учитывать, что “мир читателя” - это всегда мир конкретного “интерпретирующего сообщества” <.. .>, к которому он принадлежит и которое определяется совокупностью одних и тех же компетенций, норм, обычаев и интересов. Поэтому исследователь не может не принимать во внимание, с одной стороны, материальность текстов, а с другой - коллективного читателя» [Шартье 2001, 164]. Особое значение среди объектов ее исследования имеют характеристики произведения, обусловленные «укладом письма», в рамках которого оно создано (социальное устройство, патронаж либо книжный рынок), а также категории, из которых складывается литература как социальный и культурный институт (автор, произведение, книга, копирайт и т.д.). Тем самым история литературы призвана постоянно опираться на результаты тех дисциплин, которые занимаются описанием материальных носителей текстов - палеографии, кодикологии, библиографии.
Ссылаясь на американского шекспироведа Д. Кастана [Kastan 2001, 117-118], Шартье проводит различие между «платоническим» пониманием произведения, при котором последнее считается трансцендентным всей совокупности своих материальных воплощений, и пониманием «прагматическим», согласно которому текст не может существовать вне материальных форм, позволяющих его прочесть или прослушать. «Два этих прямо противоположных подхода к тексту, встречающиеся как в литературной критике, так и в издательской практике, делят их на два лагеря. Для одних <.. > речь идет о том, чтобы сопоставить различные состояния текста и восстановить произведение, которое написал или хотел написать автор и которое подверглось деформации и искажению в рукописи или печатном издании. Для других, например, для авторов последних исследований о Шекспире, формы, в которых было “опубликовано” произведение, представляют собой различные его исторические воплощения» [Шартье 2007, 14-15]. Любые состояния текста, даже самые причудливые, должны быть осмыслены и, по возможности, изданы, ибо они представляют собой произведение, каким оно дошло до читателей или зрителей. Следовательно, попытки реконструкции текста, существующего вне своих материальных форм - занятие бесплодное. Издание произведения предполагает лишь эксплицированный выбор того или иного его состояния.
Действительно, при изучении литературных произведений, особенно относящихся к раннему Новому времени, нельзя не учитывать прямого влияния современных им типографских практик. Например, для понимания «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле важнейшим представляется тот факт, что во всех изданиях первых двух книг романа, выходивших под контролем и при участии их создателя, используется готический шрифт (т.н. «бастарда»), который к 1530-м гг. уже воспринимался как архаический - и именно в этом качестве перешел в страту народных книг, рыцарских романов и иной «ярмарочной литературы», издававшейся низшим эшелоном печатников. Готика «стала принадлежностью старых романов, отличавшей их от романов любовных и привозных рыцарских романов» [Mounier 2015]. Иначе говоря, Рабле сознательно представляет публике свое произведение как средневековое, используя средства типографии как элемент поэтики [Стаф, 2018].
В более поздние эпохи, культура которых уже включает сложившийся институт литературы со всеми его атрибутами, влияние материальной презентации произведения на порождаемые им смыслы также велика, но сказывается иначе. Так, в одной из недавних французских работ [Гуоп-Саеп, 2003] показано на примере изданий «Парижских тайн» Эжена Сю, как появление «романа-фельетона» с присущими ему публикационными особенностями привело к рождению литературной критики.
В плодотворности такого подхода трудно усомниться. Однако между методологией двух дисциплин существует принципиальное противоречие, вытекающее из фундаментальной для истории чтения оппозиции «платонического» и «прагматического» понимания текста. Отказываясь от
«платонической» идеи произведения, литературная критика не только рискует утратить свой предмет, растворившись либо в истории чтения, либо, шире, в Cultural Studies. Как ни парадоксально, она (особенно при изучении литературы Нового и новейшего времени) оказывается перед угрозой того самого антиисторизма, против которого выступают сторонники новой научной дисциплины. Вычленение «идеального», канонического и неизменного, текста произведения из множества его материальных воплощений - операция, присущая отнюдь не только издательской практике и методам литературной критики: это неотъемлемая часть самого института литературы. Так, во Франции первые споры между печатниками и авторами, отстаивающими свои права на произведение и протестующими против его искажений, восходят еще к началу XVI в., на два с лишним столетия предваряя первые законы об авторском праве [Brown 1995]. «Идеальный текст», в конечном счете, - необходимая предпосылка авторского самосознания; без него невозможно само понятие авторства и авторской собственности. Филологическая критика, выросшая из трудов гуманистов (Петрарки, Поджо, Лоренцо Валлы, Эразма, Гийома Бюде) по реконструкции «идеальных» античных текстов, очищенных от средневековых напластований, есть прямое продолжение читательских практик определенного сообщества, вышедших за его рамки и превратившихся спустя столетия в культурную норму. Настаивая на примате «прагматики» в ущерб «платонизму», теория и история чтения ставит под сомнение историческое своеобразие этой модели, которая начала складываться на рубеже XV-XVI вв. под прямым влиянием изобретения Гутенберга. Фактически при таком подходе бытование литературы в Новое время мало чем отличается в глазах исследователя от функционирования рукописных текстов в Средние века.
Актуальность поисков новой парадигмы в историко-литературных исследованиях не вызывает сомнений. Свидетельством тому может служить, например, новая книга Т.Д. Венедиктовой [Венедиктова 2018], где автор, стремясь совместить достоинства социологического и рецептивного подходов, опирается на предложенное британским критиком Т. Беннетом понятие «формация чтения» (readingformation) [Bennett 1983], описывающее совокупность норм и кодов, которыми обусловлен процесс чтения в рамках данного сообщества и которые, в свою очередь, влияют на принципы писательского труда и понимание литературы. Представляется, что книгоиздательские практики эпохи составляют один из важнейших элементов каждой из подобных формаций.
Сложность положения, в котором оказывается современная история литературы, заключается, таким образом, в двойственности ее категориального аппарата. С одной стороны, ее существование невозможно без «платонических» понятий - сложившихся не только под воздействием философских, эстетических и юридических идей, но и при непосредственном участии типографской «прагматики»; но с другой, она постоянно должна учитывать исторически подвижный, изменчивый характер этих понятий и задаваться вопросом об их функциях в изучаемый период и о границах их применимости к конкретному материалу. Именно эта диалектика, по нашему мнению, способна послужить источником ее обновления и плодотворного развития.
Список литературы Книгоиздательские практики как объект истории литературы
- Венедиктова Т.Д. Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой. М., 2018.
- Стаф И.К. «Народная смеховая культура» у Рабле как прием архаизации повествования // Studia litterarum. 2018. Т. 3. № 2. С. 10-25.
- Шартье Р. Автор в системе книгопечатания // Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006. С. 44-77.
- Шартье Р. История и литература // Одиссей. Человек в истории. 2001. Вып. 1. С. 162-175.
- Шартье Р. Материальные формы текста: ответ на вопрос Канта // Теория и мифология книги. Французская книга во Франции и России. М., 2007. С. 5-16.
- Bennett T. Texts, Readers, Reading Formations // The Bulletin of the Midwest Modern Language Association. 1983. Vol. 16. № 1. P. 3-17.
- Brown C. Poets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late medieval France. Ithaca, 1995.
- Cappello S. Le prime traduzioni francesi del Decameron: Laurent de Premierfait (1414), Antoine Verard (1485) e Antoine Le Magon (1545) // Fortuna e traduzioni del Decameron in Europa. Atti di trentacinquesimo Convegno sui problemi della traduzione letteraria e scientifica / a cura di G. Peron. Padova, 2008. P. 203-219.
- Chartier R. Fabrique du livre et fabrique du texte // Creations d'atelier. L'editeur et la fabrique de l'oeuvre a la Renaissance / sous la dir. d'A. Reach-Ngo. Paris, 2014. P. 7-20.
- Chartier R. Figures de l'auteur // Chartier R. Lэordre des livres: lecteurs, auteurs, bibliotheques en Europe entre XIVе et XVIIIе siecle. Aix-en-Provence, 1992. P. 35-67.
- Darnton R. What is the History of Books? // Daedalus. 1982. Summer. Vol. 111(3). P. 65-83.
- Dm I., Parinet E. Histoire des auteurs. Paris, 2013.
- Febvre L., Martin H.-J. L’apparition du livre. Paris, 1958.
- Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? // Bulletin de la Societe frangaise de philosophie. 1969. 63e annee. № 3. Juillet-septembre. P. 73-104.
- Histoire de l'edition frangaise / sous la dir. de H.-J. Martin et R. Chartier. T. I-IV. Paris, 1982-1986.
- Kastan D.S. Shakespeare and the Book. Cambridge, 2001.
- Lyon-Caen J. Histoire litteraire et histoire de la lecture // Revue d'histoire litteraire de la France. 2003. Vol. 103. № 3. Р. 613-623.
- McKenzie D.F. Bibliography and the Sociology of Texts: The Panizzi Lectures, 1985. London, 1985.
- Mounier P. Les antecedents lyonnais de la Bibliotheque bleue au XVIе siecle: la constitution d'un romanesque pour le grand public // Litteratures. 2015. № 72. P. 191216.
- Rico F. El texto del « Quijote »: Preliminares a una ecdotica del Siglo de Oro. Valladolid, 2005.
- Storia della lettura nel mondo occidentale / a cura di G. Cavallo e R. Chartier. Roma-Bari, 1995.
- Viala A. Naissance de l’ecrivain. Sociologie de la litterature a l’age classique. Paris, 1985.
- Viet N. Cameron, Decameron, Heptameron: la genese de l'Heptameron au miroir des traductions frangaises de Boccace // Seizieme Siecle. 2012. № 8: Les textes scientifiques a la Renaissance. Р. 287-302.
- Winn M.B. Anthoine Verard, Parisian publisher. 1485-1512. Prologues, poems and presentations. Geneve, 1997. (Travaux d’Humanisme et Renaissance, № CCCXIII).